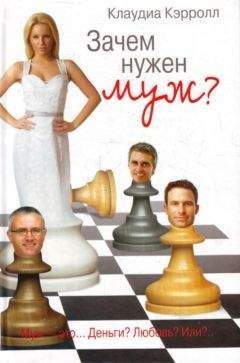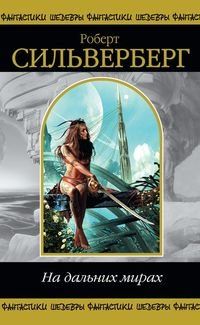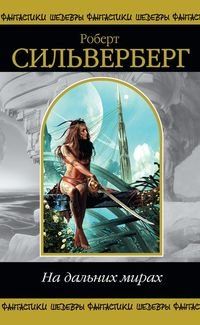Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Не надо уточнять, армянское ли это жилище — сакля. Надо почувствовать, как стих, летящий по параболе, очерчивает Советскую Вселенную от звезд до ухабов на дороге.
А что официальных символов мало, — так тут и не нужно: без них все ясно до конца. Звезд полно, все синие, ни одной красной. Партия помянута один раз — тот самый: пример детсадовской политграмоты. А лучше мальчики знают «вождей компартий имена… от Индонезии до Чили» (ближе нету?). Помянуты, как мы видели, и органы: «двенадцатилетние чекисты» намереваются «бить контру на дому… в лице молочниц и мамаши» (еще одно беглое упоминание о матери).
Возникает ощущение зияюще гулкой вселенной, она ждет имен, ждет вождей, символов, целей, она к ним подведена… Об этом свидетельствует «капитан непостроенных бригов, атаман несозданных вольниц», готовый за все это погибнуть.
Идеологические тотемы появляются у Когана в стихах уже перед самой войной. Не потому, что в столичном Литинституте полагается присягать тотемам, а потому, что «абстрактная совесть», реявшая среди воображаемых бригов и вольниц, естественно обретает контуры:
«Да, как называется песня, бишь?»
(Критик побрит и прилизан.)
Ты подумаешь,
Помолчишь
И скажешь:
«Социализм».
Критик нужен для оправдания «пафоса». Все обретает имена:
Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь…
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы…
«Держава» еще не названа. Но именно ею чреваты тотемы.
…И мальчики моей поруки
сквозь расстояние и изморозь
протянут худенькие руки
тотемом коммунизма.
Конкретных примет начавшейся войны — нет. Нет той окопной фактуры, которая станет почвой, основой, символом веры поколения, шагнувшего в войну со школьной скамьи. А ведь интендант 2 ранга Коган — на переднем крае! Пусть не обманывает нас слово «интендант» — с его знанием немецкого языка он обретается именно там, где «языки», то есть где «берут» языков, — в разведке. Но: за год войны — ни одной строчки о той войне, которая уже идет. О той ненависти, которая уже кипит вокруг!
В письмах — об этом чуть не в каждой строке.
12 марта 1942 года. Жене:
Мне хочется отослать тебе кусочек этой фронтовой ночи, простреленной пулеметами и автоматами, взорванной минами. Ты существуешь в ней рядом со мной. И спокойная моя бодрость наполовину от этого… А в трехстах метрах отсюда опоганенная вражьими сапогами земля. Край, в котором я родился, где в первый раз птиц слышал. Так вы и существуете рядом — любовь моя и ненависть моя…
…В феврале был контужен, провалялся в госпитале месяц. Теперь опять в «полной форме». Очень много видел, много пережил. Научился лютой ненависти.
Май 1942 года. Родителям:
Батько родной! Получил две твоих открытки. Рад был страшно. О том, что ты в Москве, узнал недавно — письма ходят по 2–3 недели. Не сердись, родной, что не пишу. Это здесь очень трудно по многим причинам, нелепым для вас в тылу: нет бумаги, негде писать, смертельно хочется спать и т. д.
Что писать о себе: жив-здоров, бодр, воюю. Очень хочется верить, что останусь жив и что свидимся все у нас, на улице Правды. Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь — жизнь. Рядом со смертью это очень хорошо понимается. И ради жизни, ради Оленькиного смеха, ради твоей седой чудесной головы я умру, если надо будет, потому что человек с нормальной головой и сердцем не может примириться с фашизмом…
Июль 1942 года. Другу:
…3-го был бой, а 4-го — день моего рождения. Я шел и думал, что остаться живым в таком бою все равно, как еще раз родиться. Сегодня у меня вырвали несколько седых волос. Я посмотрел и подумал, что этот, наверно, за ту операцию, а этот вот за ту… Верст за 10 отсюда начинается край, где мы с тобой родились. Должно быть, мы умели крепко любить в юности. Я сужу по тому, какой лютой ненависти я научился…
Родной, если со мной что-нибудь случится, — напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал…
Тут сплошь то, чего нет в стихах: война, увиденная изнутри, реальная, кровавая, страшная.
А стихов нет: видно, ненависть должна еще дорасти до поэзии. Ни одной строчки не написано за год войны. Разве что вот это «Лирическое отступление» из незаконченной поэмы — на грани мира и войны, жизни и смерти. Завещание, пронзившее нашу лирику:
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
…Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они…
Позавидовали — младшие братья, мы, спасенные от фронта. А пришедшие за нами следом — нет, не позавидовали, только подивились наивности мальчиков Державы, да и отодвинули их опыт в недосягаемость.
Он предчувствует и это:
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки пробьемся мы!..
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю…
Куда там — их всесветность! Это у него — всесветность! Он и вообразить не может, что в русские патриоты его не пропустят из-за еврейского происхождения! Эта проблема достанется другому мальчику Державы, такому же русскому патриоту такого же происхождения — Борису Слуцкому, со стихов которого («Евреи хлеба не сеют…») вспыхнет в 1956 году его неофициальная слава.
За полтора десятилетия до этого Павел Коган славит русские пейзажы, вживленные в мировую земшарность:
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом краю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Не дошел до Ганга. Дошел до сопки Сахарной под Новороссийском. Погиб 23 сентября 1942 года.
Сергей Наровчатов начал реквием: «Возглавляя поиск разведчиков, в рост пошел он под пули, как в рост шел он по жизни…»
В реальной войне разведчики, кажется, в рост не ходят.
Но если говорить о поэзии Павла Когана, то все точно. Разведчик. В рост. Под пули.
МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ:
«ПО ПАХОТЕ ПЕХОТА»
В отличие от Павла Когана, он сравнительно много успел опубликовать за отмеренные гибелью двадцать два года жизни. Начиная с украинских и русских пионерских газет и журналов (школьнику было шестнадцать лет) и кончая «толстым» журналом «Октябрь», где за три месяца до войны он (студент столичного Литинститута) поместил фрагменты программной поэмы «Самое такое».
В отличие от Павла Когана, он хорошо запомнил, изучил и описал город своего детства. Харьков «вгод моего рождения». То есть в 1919:
«А безработные красноармейцы с прошлогодней песней, еще без рифм, на всех перекрестках снимали немецкую проволоку, колючую, как готический шрифт. По чердакам еще офицеры марались, и часы по выстрелам отмерялись. Но в бурой папахе, бурей подбитой, на углу между пальцев людей пропускал милиционер, который бандита уже почти что совсем не напоминал…» Меты таланта: остроумная наблюдательность, отмечающая часы по выстрелам; поэтическая фантазия, прочитывающая готику в колючках немецкой проволоки… Но сквозь эти взблески прирожденного мастера — какова подлинность картины, написанной явно по рассказам, но по рассказам тех, кто сам перетерпел жуть недавней гражданской войны! И какая цепкость пера, силящегося удержать на бумаге жизнь во всей ее фактурной, мощной, удивительной конкретности.
Наконец, в отличие от Павла Когана — удержан близкий круг: родные, отец, деды… Контраст с Коганом тем интереснее, что по системе убеждений они почти близнецы, мальчики Державы, разность их опыта не ощущается как конфликтная ситуация, но — как общая картина, увиденная с разных точек.
Биографы Кульчицкого свидетельствуют, что он — «из старинной русско-украинской интеллигенции». Мать, «в молодости красивая, привыкла к старинным тонкостям обращения… ее круга». Отец — бывший царский офицер, ветеран Империалистической войны и Георгиевский кавалер, в молодости писал стихи, в зрелости — солдатские уставы. При Советской власти — юрист. В 1933 году арестован за сокрытие дворянского происхождения, каковое (сокрытие) объяснил следователям так: революция отменила сословия, и он просто не придал значения странным пунктам анкеты. При всей внешней верноподданности такой довод отдавал тонкой издевкой, и арестанта отправили на Беломорканал, а затем в ссылку, куда к нему на свидание допустили со временем и сына. Сын вывез из поездки поэтически изваянный карельский пейзаж, стихотворение появилось в журнале «Пионер», и это стало первой публикацией Михаила Кульчицкого.