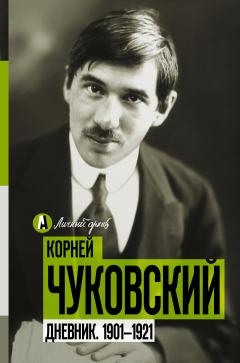Корней Чуковский - Дни моей жизни
Среда 25. Сентябрь. В гости приехала Елена Сергеевна Булгакова. Очень моложава. Помнит о Булгакове много интереснейших вещей. Мы сошлись с ней в оценке Влад. Ив. Немировича-Данченко и вообще всего Художественного театра. Рассказывала, как ненавидел этот театр Булгаков. Даже когда он был смертельно болен и будил ее — заводил с ней разговор о ненавистном театре, и он забывал свои боли, высмеивая Немировича-Данченко. Он готовился высмеять его во второй части романа.
Пятница 21. Сентябрь. Была Софа. Решено, что ради полного «листажа» к VI тому нужно прибавить несколько моих переводов Из Киплинга, Уайльда, О. Генри.
Вчера была поэтесса двадцати одного года — с поклонником физиком. Стихи талантливы, но пустые, читала манерно и выспренне. Я спросил, есть ли у нее в институте товарищи. Она ответила, как самую обыкновенную вещь:
— Были у меня товарищи — «ребята», — теперь это значит юноши, — но всех их прогнали.
— Куда? За что?
— Они не голосовали за наше вторжение в Чехо-Словакию.
— Только за это?
— Да. Это были самые талантливые наши студенты!
И это сделано во всех институтах.
Говорят, что в Союзе Писателей Межелайтис, Симонов, Леонов и Твардовский отказались выразить сочувствие нашей Чехо-Словацкой афере.
Понедельник 30. Сентябрь. Пришел к убеждению, что мои шестимесячная забастовка из-за требований «Совписа», чтобы я вычеркнул имя Солженицына из своей книги «Высокое искусство», бесплодна и что нужно убрать это имя. Сознание этого так мучит меня, что я не мог заснуть, несмотря на снотворные.
Вторник 1. Октябрь. Правил свои переводы «Just so Stories», «Рыбака и его души» и О.Генри для 6-го тома. Убедился, что я плохой переводчик, ненаходчивый и негибкий.
Безумная жена Даниэля! Оставила сына, плюнула на арестованного мужа и сама прямо напросилась в тюрьму. Адвокатши по ее делу и по делу Павлика — истинные героини, губящие свою карьеру{12}. По уставу требуется, чтоб в политических делах адвокаты признавали своих клиентов виновными и хлопотали только о снисхождении. Защитницы Павла и Ларисы — заранее отказались от этого метода.
С моей книжкой «Высокое искусство» произошел забавный казус. Те редакторы, которые потребовали, чтобы я изъял из книги ту главку, где говорится об Александре Исаевиче, — не подозревали, что на дальнейших страницах тоже есть это одиозное имя. Я выполнил их требование — и лишь тогда Шубин указал им, что они ошиблись. С Конюховой чуть не приключился инфаркт. Я говорил с ней по телефону. Она говорит: это моя вина… теперь меня прогонят со службы. Что делать? Я сказал: у вас есть единственный выход: написать мне строжайшее требование — официальное, и я немедленно подчинюсь приказу.
— Хорошо! — говорит она. — Я пришлю вам такой приказ — за своей подписью.
— Пожалуйста.
Четверг 3. Октябрь. Получил известие, что завтра, в пятницу, ко мне приедет Шеровер, владелец моего портрета в Иерусалиме. Интересно, каков он окажется.
Пятница 4. Октябрь. Ну вот только что уехал Шеровер. Маленького роста джентльмен 62-х лет, очень учтивый, приятный — он приехал на симпозиум по черной металлургии; приехал из Венесуэлы, где он участвовал в строительстве сталелитейного завода. Он рассказывал свою жизнь — как молодым человеком он организовал заем Сов. Союза в Америке — уплатив нам в виде гарантии собственные 10 000 долларов. Рассказал историю моего портрета — совсем не ту, какая помнится мне; он купил этот портрет за 2 500 долларов. В Иерусалиме у него вилла, там и висит мой портрет. Показал портрет сына, который сражался в израиле-арабской войне. Эта война волнует его. Он рассказал, как Насер за несколько дней до войны заявил, что русские друзья предупредили его, что Израиль собирается напасть на арабов. Премьер Израиля предложил русскому посланнику в Израиле убедиться, что это не так, но тот отказался, и т. д.
По словам Шеровера, он пожертвовал на кафедру русского языка в израильском университете 10 000 долларов и теперь на постройку театра в Иерусалиме один миллион долларов. «Люблю искусство!» — скромно признается он.
Понедельник 7. Октябрь. Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство: вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» — строки о Солженицыне. Этих строк много. Пришлось искалечить четыре страницы, но ведь я семь месяцев не сдавался, семь месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу — семь месяцев страдал оттого, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к тому, чтобы лечь на прилавок, и теперь, когда издательство заявило мне, что оно рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего лишь литератор, и раз решил наносить книге любые увечья, ибо книга все же — плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда.
Мне предсказывали, что, сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую большие мучения, но нет: я ничего не чувствую, кроме тоски, — обмозолился.
Вторник 8. Октябрь. Сейчас ушел от меня известный профессор Борис Николаевич Делоне — дед злополучного Вадима, которого будут завтра судить{13}. Рассказал между прочим, как Сталин заинтересовался «Историей опричнины», разыскал книгу о ней и спросил, жив ли автор книги. Ему говорят: «жив». — «Где он?» — в тюрьме. «Освободить его и дать ему высокий пост: дельно пишет». Наше ГПУ — это те же опричники. Профессору Делоне это рассказывал сам автор — Смирнов.
Рассказывал, как молодой Якир в Кишиневе, где ставили памятник его отцу, вдруг сказал перед многотысячной публикой собравшейся на торжество:
— Неужели не стыдно Ворошилову и Буденному, кои подписали смертный приговор моему отцу.
Делоне — 78 лет. Бравый старик. Альпинист. Ходит мною пешком. На днях прошел 40 километров — по его словам.
Среда 9. Октябрь. Комната моя заполнена юпитерами, камерами. Сегодня меня снимали для «Чукоккалы»{14}. Так как такие съемки ничуть не затрудняют меня и весь персонал очень симпатичен, я нисколько не утомлен от болтовни перед камерой. Это гораздо легче, чем писать. Я пожаловался Марьяне (режиссеру), что фильм выходит кособокий: нет ни Мандельштама, ни Гумилева, ни Замятина, так что фотокамера очень стеснена. Она сказала:
— Да здравствует свобода камеры!
Дмитрий Федоровский (оператор):
— Одиночной.
А в Москве судят Павлика, Л.Даниэль, Делоне. Чувствую это весь день. Таня, Флора, Миша у меня как занозы{15}. И старуха Делоне…
Четверг 10. Октябрь. Снимали меня для «Чукоккалы». Ужасно, что эта легкомысленная, игривая книга представлена из-за цензуры — постной и казенной.
Выступать перед юпитерами — для меня нисколько не трудно. И потерянного дня ничуть не жалко.
Сегодня второй день суда над Делоне, Даниэлем, Павликом.
Все мысли — о них. Я так обмозолился, что уже не чувствую ни гнева, ни жалости.
Погода хорошая после снега и слякоти. Милый Александр Исаевич написал мне большое письмо о том, что он нагрянет на Переделкино вскоре, чему я очень рад.
Суббота 12. Октябрь. Была Ясиновская по поводу «Вавилонской башни»{16}. Работники ЦК восстали против этой книги, т. к. там есть Моисей и Даниил. «Моисей не мифическая фигура, а деятель еврейской истории. Даниил — это же пища для сионистов!»
Словом, придиркам нет и не будет конца.
По моей просьбе, для разговора с Ясиновской я пригласил Икрамова, одного из редакторов «Науки и религии». Милый человек, сидевший в лагере, много рассказывал о тамошней жизни. Как арестанты устраивали концерты в дни казенных праздников, как проститутки исполняли «Кантату о Сталине», выражая ему благодарность за счастливую жизнь. Рассказывал о том, как милиция любит вести дела о валютчиках, так как те дают взятки валютой.
Воскресенье 13. Октябрь. Пришла к вечеру Таня — с горящими глазами, почернелая от горя. Одержимая. Может говорить только о процессе над Павликом, Делоне, Богораз и др. Восхищается их доблестью, подробно рассказывает о суде, который и в самом деле был далек от законности. Все ее слова и поступки — отчаянные.
Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово «интеллигент» стало словом ругательным, — важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов — в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова или Констэнс Гарнетт посадили в тюрьму.
Пятница 18. Октябрь. Вчера вечером приехал Солженицын. Я надеялся, что он проживет недели две — он приехал всего на сутки. При встрече с ним мы целуемся — губы у него свежие, глаза ясные, но на моложавом лице стали появляться морщины Жена его «Наташа», работающая в каком-то исследовательском институте в Рязани, вдруг получила сигналы, что не сегодня завтра ее снимут с работы. Уже прислали какого-то сладенького «ученого», которого прочат на ее место. Через час после того, как он уехал из своей деревенской избы, сосед Солженицына увидел какого-то высокого субъекта, похожего на чугунный памятник, который по-военному шагал по дороге. У соседа на смычке собака. Субъект не глядел по сторонам — все шагал напрямик. Сосед приблизился к нему и сказал: «уехали!..» Тот словно не слышал, но через минуту спросил: «когда?» Сосед: «да около часу, не больше». Незнакомец быстро повернул, опасливо поглядывая на собаку. Сосед за ним — на опушке стояла машина невиданной красоты (очевидно, итальянская), у машины стояли двое, обвешанные фотоаппаратами и другими какими-то инструментами.