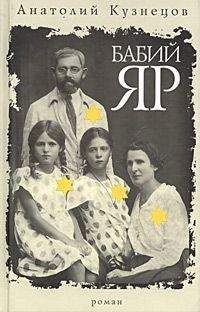Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью
А в двадцатом веке? Мандельштам, Цветаева, другие…
В двадцатом веке и народу стало побольше, и собственно грамотность увеличилась, так что, может быть, в связи с этим у нас в этом веке четверо, или пятеро, или шестеро. В этом смысле в общем повезло. В принципе, они все — как бы один великий поэт. Но в двадцатом веке будет довольно сложно выяснить, кто эти "они". Я-то считаю, что самый крупный русский поэт двадцатого века все- таки Цветаева. Но тут я, естественно, сам с собой вступаю в конфликт.
А Державин вас не интересует?
Я его обожаю — я обожаю всех классицистов, я их преподавал довольно долго, но случая писать о них не представилось. Кантемир, Тредиаковский, Херасков, Сумароков… Это совершенно замечательные поэты. Кантемир и Державин чрезвычайно важные для меня господа, они на меня очень сильно повлияли — так мне кажется.
Кстати, насчет преподавания. Когда вы получили Нобелевскую премию, я подумала, что вы бросите преподавать.
Нет, а зачем? Да нет, это необходимо, по самым разным соображениям. Я вообще-то преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо. Если господа вроде меня появляются в классной комнате — это единственная в некотором роде форма страховки, которая существует у будущего. Я действительно так считаю. Это не переоценка самого себя, это просто взгляд на мир, который присущ людям моей профессии. И в общем это мой долг и даже моя гражданская обязанность, если угодно.
В Германии очень немного литературоведов, любящих литературу. Они занимаются этим как историки, занимаются документами. А в Америке с этим как?
В Соединенных Штатах существует и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Но я в некотором роде не литературовед, я во всех отношениях, грубо говоря, аматер. То есть все это в сильной степени любительщина. Что-то я в некоторых областях знаю — я думаю, что в сфере изящной словесности мне, видимо, нечто более понятно, чем в других сферах литературы — чем в прозе, например, или в театре. И я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что такое предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат и за это мне платят. А когда говоришь об этом, в эти разговоры немедленно вовлекается черт знает что — фазу же все. Весь мир вовлекается.
Но кроме гражданского долга, все-таки вы получаете какое-то?..
Да, конечно, — удовольствие. Очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует. Вслух. Как правило, с коллегами, то есть с преподавателями в академической среде, об этом особенно не поговоришь. Там довольно мало людей, которые бы что-нибудь поняли, которым все это до известной степени интересно. И оказий для таких разговоров чрезвычайно мало, а это такая в известной степени даже терапия.
У меня был еще вопрос насчет Шекспира…
Так, это интересно, насчет Шекспира! Так давайте!
…он у вас появляется в цитатах. Но мне почему-то кажется, что вам он не должен нравиться.
Да нет, я его обожаю. Почему это он мне не нравится? Я его обожаю. Я его обожаю, но я его знаю хуже. Не знаю, как это случилось, но в общем поначалу я читал Шекспира исключительно по-русски, и потом, когда я стал его читать по-английски, возникло какое-то странное препятствие в процессе запоминания — я не запоминаю его строчки точно. И когда я их не помню, это меня раздражает. Я помню сцены, я помню обстоятельства, я помню то- се, пятое-десятое, и я — для нормального русского человека — довольно много знаю по-английски на память. Но я боюсь цитировать Шекспира, потому что боюсь совершить ошибку. Прежде всего потому боюсь, что это для меня как бы до известной степени святая святых.
Раз мы всех знаменитостей упомянули… Когда вы читали Беккета? В первый раз.
Мальчишкой. То есть не мальчишкой, но в возрасте лет так двадцати четырех — двадцати пяти я узнал о его существовании. Думаю, что впервые я прочел по-английски "Malone dies", когда мне было, я думаю, лет двадцать семь— двадцать восемь.
То есть еще в Союзе?
Да, конечно. То есть в шестьдесят седьмом — шестьдесят восьмом году.
И по-английски?
Да. И этот господин произвел на меня сильное впечатление. Теперь я уже вижу в нем дырочки. Слабости. Но это я теперь вижу, с колокольни пятидесяти лет.
Это было до "Посвящается Ялте" и "Горбунова и Горчакова"?
Я не помню, было ли это до "Посвящается Ялте". Нет, после. Но точно до "Горбунова и Горчакова". Безусловно. В "Горбунове и Горчакове", кстати, как раз до известной степени стояла такая задача — переабсурдить абсурд, что, я думаю, до известной степени мне и удалось.
А "Мрамор"? "Мрамор" же в принципе к тому близок.
Похоже на "Горбунова и Горчакова"? В известной степени — да. Но там стояли совершенно другие задачи — просто хотелось написать пьесу. Я вообще эту пьеску "Мрамор" начал сочинять довольно давно. Когда я еще был в России, я написал первый акт, одну или две сцены из первого акта, а потом совершенно забыл об этом. Много лет спустя я как-то летом был в Голландии, вернее, я был в Англии и ехал из Англии в Голландию. У меня образовалось полтора месяца, и я сочинял всякие статьи — и перестал, кончились все эти статьи. Да, я был в Англии и остановился у своих знакомых, вот как раз у этих самых знакомых [имеется в виду, что у тех же знакомых, в чьей лондонской квартире происходит беседа], и миссис Майерс рылась в каких-то своих бумажках и нашла кусочек. Оказалось, что, когда я это написал, я им это дал — и совершенно забыл. Я присмотрелся к бумажке, и… знаете, как это бывает, когда десять лет спустя, если не больше, смотришь на свои бумажки — становится стыдно… краснеешь. И тут я вдруг увидел две или три странички, и я прочел их, и мне не стало стыдно. Я подумал, что, может быть, эту пьеску как-нибудь попробовать закончить, и взял ее с собой в Голландию. Там я закончил свои статьи, и у меня образовалось полтора месяца или месяц. Хотелось в общем- то написать стишки, но со стишками знаете как — когда начинаешь их писать, начинается сильная нервотрепка: получается — не получается, в общем, все летит вверх тормашками, и в то лето мне уже просто не хотелось — слишком много накопилось психологического хаоса, мне не хотелось его снова себе создавать, я знал, что, когда пишешь прозу, особенно если пьесу, по крайней мере худо- бедно одну или две страницы в день напишешь, — так как-то спокойнее. Ну вот, я и сочинил эту пьеску…
А с Беккетом вы познакомились?
Нет-нет. Дважды или трижды была возможность, но я как-то от этого уклонялся, потому что мне было неловко: ну кто я, а кто Беккет, и все эти разговоры…
Я прочла книгу Полухиной [ "Poet for Our Time", Cambrige University Press, 1989]…
Я ее не читал, я посмотрел первые две страницы…<…>
Вам-то это вообще не нужно [читать книжки о себе самом]…
Да. Да.
…это понятно. А мне это надо как-то знать. Меня особенно смутило вот что: у вас в начале семидесятых были стихи, где вы ищете Бога, который…
Что и кого я там ищу, какого Бога?. Ну, это не важно.
А "Разговор с небожителем"?
"Разговор с небожителем" — это было давно. Но, по-моему, это не поиски Бога, нет. Там есть довольно замечательная — как мне тогда казалось — лингвистическая энергия. Вы знаете, не надо судить стихи по содержанию… Ну, я не знаю… Нуда, в общем там это, наверное, есть. В чем смысл жизни и т. д. и т. д. Во имя чего все это делать.
Нет, там этого нет. Там он [то есть Бог] не отвечает. Вы обращаетесь, он не отвечает.
Ну да, он не отвечает. Это разговор в одну сторону.
Это как раз то, что меня очень сильно смутило у Полухиной, потому что она все время говорит про какую-то веру…
Ну, видимо, ей так интереснее. Там есть замечательная строчка, по-моему:
Как жаль, что нету в христианстве Бога —
пускай божка —
воспоминаний…
Божка — бога воспоминаний, то есть
пускай божка —
воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат — идолища с ликом
тара-тара-ра-ра-ра… слишком
глухих ночей…
Ну, в общем такие… Там содержатся некоторые упреки христианству. Которые можно было бы еще и приумножить. Но не важно, не в этом дело.
Мне кажется, что после, в "Натюрморте", это есть, и это есть, по-моему, в восемьдесят седьмого года "Рождественском", которое кончается "и это был взгляд Отца". Очень мне нравится этот стих.
Ага, ага. Мне тоже.
И в "Натюрморте" это тоже есть. Там речь не идет о том, что есть Бог и он не отвечает, но важна, видимо, мать, а в "Рождественской звезде", что Бог опускается как- то, и главное…
Это все очень просто, потому что вообще все это самое христианство, вся христианская система, по крайней мере, то, что касается самого Христа и того, что он превзошел, это совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Она вполне приложима к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, точно так же относится и к Библии, то есть и к Ветхому Завету. Это такие архетипические ситуации, которые как бы расширяют понятия, да? [Вздыхает.]