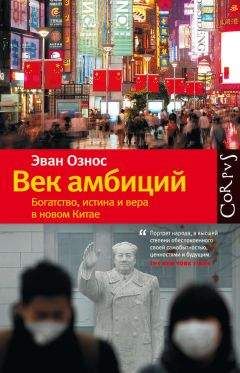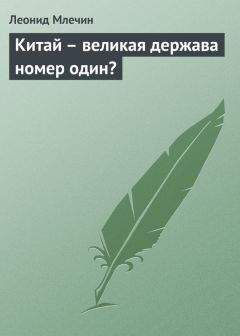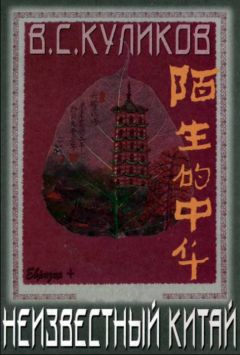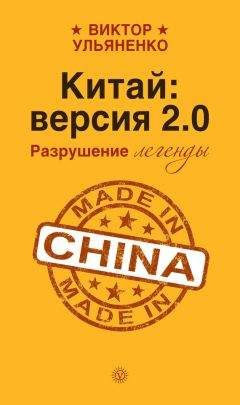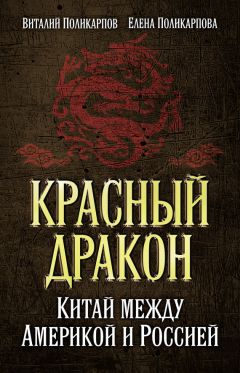Китай в эпоху Си Цзиньпина - Зуенко Иван Юрьевич
Распространенный стереотип, что студенческие выступления на площади Тяньаньмэнь весной 1989-го были про «свободу и демократию», справедлив только отчасти. Такие лозунги тоже были, но на самом деле прежде всего студенты протестовали против социальной бесперспективности: против системы блата, кумовства, инфляции и безработицы. Ценой подавления выступлений и заморозки любых дискуссий о возможности политических реформ Коммунистическая партия Китая власть сохранила. А разговоры о недоверии к партии прекратились. Тем более, начиная с середины 1990-х годов, страна показывала экстраординарные темпы роста экономики. Пресловутый «общественный договор» между обществом и властью трансформировался в схему «власть обеспечивает повышение благосостояния, а население закрывает глаза на коррупцию».
Практика слияния интересов местного бизнеса и политических элит была почти узаконена, но постепенно она перестала отвечать интересам Центра, который к тому же уступал регионам большую часть собираемых налогов. В результате в 1994 году была проведена фискальная реформа, согласно которой большая часть налогов стала направляться в Центр, а ряд налогов (например, на местную продукцию, который платили в местный бюджет вне зависимости от прибыльности предприятий) и вовсе был отменен. Как следствие, у региональных властей исчезли стимулы содержать убыточные местные предприятия, те стали разоряться, а чиновники начали ориентироваться на взаимодействие с крупными компаниями, имеющими коммерческие интересы в том или ином регионе.
«Золотой жилой» оказалась работа с государственными строительными корпорациями. Местные правительства получали у госбанков займы и тратили их на инфраструктурные проекты, а подряды на них получали такие компании. Чиновники, выступавшие в этой схеме в качестве связующего звена, за свои услуги, как водится, брали «откат», и как раз к рубежу нулевых — десятых для них начались подлинно золотые времена: на фоне мирового финансового кризиса 2007–2008 годов Китай начал вкладываться в масштабное строительство инфраструктуры.
Глобальный кризис принципиально изменил формулу успеха китайской экономики: спрос на китайский экспорт на Западе падал, и, чтобы предотвратить замедление роста ВВП, о пагубном воздействии которого на социальную стабильность ученые говорили с 1990-х годов, Пекин перешел к инвестициям, щедро тратя миллионы юаней из кубышки, накопленной со времени фискальной реформы. Правительство снизило налоги на недвижимость и призвало банки давать ссуды. Посредством кредитов и прямых траншей власти начали вкладываться в железные дороги, шоссе, порты и строительство жилья. Строительный бум породил у чиновников грандиозные амбиции, помноженные на надежды урвать «свой интерес».
Самые выдающиеся истории связаны со строительством небоскребов и сети высокоскоростных железных дорог — о них подробнее будет сказано в соответствующих очерках.
К приходу к власти Си Цзиньпина коррупция, наравне с загрязнением окружающей среды и огромным внутренним долгом, считалась главной проблемой Китая. В 2021 году Центральный комитет КПК, подводя итог столетней истории партии, записал в свою резолюцию: «После начала проведения политики реформ и открытости были достигнуты огромные успехи <…>. В то же время возникли новые риски и вызовы, налицо глубинные противоречия и проблемы, которые не были решены в течение долгого времени. Одно время в управлении партией наблюдалась нестрогость, распущенность и слабость, что привело к распространению коррупции и других негативных явлений» [66].
Вот с этой «нестрогостью, распущенностью и слабостью» и принялся бороться Си Цзиньпин.
Безусловно, антикоррупционная риторика существовала и до Си Цзиньпина. И Дэн Сяопин, и другие руководители постоянно говорили о недопустимости «нарушений партийной дисциплины». Однако эти слова настолько явно расходились с делами, что на них никто не обращал внимания. До сих пор в Китае борьба с коррупцией сводилась к показательной порке некоего «козла отпущения» или использовалась как тяжелая артиллерия в борьбе партийных кланов. И сначала казалось, что Си Цзиньпин будет использовать антикоррупционную кампанию именно в этом качестве!
Однако довольно скоро выяснилось, что это не так. Собственно, «ноу-хау» Си Цзиньпина является тотальный характер предпринятой им кампании. Был провозглашен лозунг «Бить тигров и мух»
Главной целью такого подхода было насаждение атмосферы тотального страха, искоренение ощущения, что «меня пронесет, ведь есть наверху надежные люди». Российские региональные чиновники по итогу работы с китайскими партнерами в 2013–2014 годах констатировали: какая-либо активность с китайской стороны практически прекратилась, все притаились, стараясь не привлекать к себе внимания. Таким был один из побочных эффектов антикоррупционной кампании.
Понятно, что всегда лучше убить двух зайцев, поэтому антикоррупционные чистки Си Цзиньпин, как и ожидалось, совместил с зачисткой политической элиты от своих конкурентов. Наиболее известными жертвами кампании стали такие деятели, как бывший начальник канцелярии ЦК КПК Лин Цзихуа
Другой особенностью предпринятой кампании явилась ее медийность. Раньше «честное имя партии» старались в негативном контексте употреблять пореже. Коррупционера снимали со всех постов, осуждали, и он навсегда пропадал из поля зрения публики. Сейчас ситуация поменялась. Поскольку цель кампании — вернуть доверие общества к власти, то и медийный охват — чем больше, тем лучше. Более того, журналисты стали копаться в очень грязном и очень дурно пахнущем белье. Раскрытые в СМИ подробности личной жизни бывшего шефа силовиков и китайской «нефтянки» Чжоу Юнкана, обладателя нескольких роскошных особняков и целого «гарема» из сотрудниц Центрального телевидения, — отличный сюжет для порнофильма [68].
Третья особенность кампании: ключевое значение в ее осуществлении принадлежит не прокуратуре, а партийному органу — Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК [69]. Эта структура существовала и раньше, но именно при Си Цзиньпине она превратилась в силу, обладающую большим весом, чем спецслужбы. А ее руководитель Ван Цишань, считающийся куратором всей антикоррупционной кампании, в 2012–2017 годах фактически стал «человеком № 2» в Китае [70].
Еще одной характерной чертой кампании стал ее морализаторский характер. Борются не только с «откатами» и «распилами», но и с различными проявлениями «излишеств» и «разложения». Существенно сокращены представительские расходы и ограничено число заграничных поездок. По всей стране закрыли бордели (их крышевали коррумпированные силовики, а посещали коррумпированные чиновники). Начали интересоваться личной жизнью чиновников, содержание наложницы (необходимый атрибут успешного человека в Китае с незапамятных времен) стало восприниматься как проявление коррумпированности и моральной нечистоплотности, верный знак скорых разбирательств партийных комиссий по проверке дисциплины.