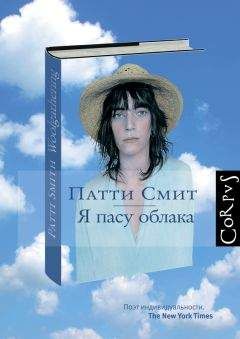Патти Смит - Поезд М
Ну да, нет у меня Валентина, а значит, ковбой, вероятно, прав. Когда нет у тебя Валентина, каждый потенциально твой Валентин. Я решила не давать ход этой идее: иначе придется с утра до вечера клеить кружевные сердечки на красные картонки, чтобы разослать всему миру.
“Мир есть все то, что имеет место”. Вот определенно изящная острота, которой я обязана “Логико-философскому трактату” Витгенштейна: смысл уловить легко, разъять на части невозможно. Может, написать ее печатными буквами на прелестной бумажной салфетке и подсунуть в карман незнакомому прохожему? А может, моим Валентином станет Витгенштейн? Мы могли бы жить на склоне норвежской горы в маленьком красном домике, в сварливом молчании.
По дороге в ’Ino я заметила, что в левом кармане пальто прохудилась подкладка. “Зашить”, – мысленно сделала заметку. И вдруг у меня поднялось настроение. Погода бодрящая, безоблачная, жизнь кипит, и оттого атмосфера вибрирует, словно полупрозрачные нити на теле редкого морского животного с длинными текучими щупальцами, словно вертикальные лопасти, струящиеся от колокола медузы. Эх, если бы человеческая энергия могла так материализовываться! Воображаю, как такие нити тянулись бы горизонтально за полами моего черного пальто, махали бы прохожим.
В туалете ’Ino стояла маленькая ваза с красными бутонами роз. Я накинула пальто на пустой стул напротив и провела почти час, прихлебывая кофе и заполняя страницы блокнота набросками одноклеточных существ и нескольких видов планктона. Это странным образом успокаивало, потому что я вспомнила, как перерисовывала их из увесистого учебника, который стоял на полке над отцовским письменным столом. У отца были самые разные книги, спасенные из мусорных корзин и заброшенных домов либо купленные за гроши на церковных базарах. Спектр тем – от уфологии до Платона и планарий – отражал его неугомонную любознательность. Над тем учебником я корпела часами, созерцая описанный в нем таинственный мир. Текст был запутанный, непостижимый, но в монохромных изображениях живых организмов каким-то загадочным образом угадывалось разноцветье, словно плотвички сверкали во флуоресцентном пруду. Эта безвестная и безымянная книга со всеми ее инфузориями-туфельками, водорослями и амебами, плывет по волнам моей памяти, как живая. Бывает, вещь исчезает в пучине времени, а мы вдруг обнаруживаем, что жаждем увидеть ее вновь. Ищем ее, всматриваясь в каждую деталь, – совсем как собственные руки во сне.
Отец утверждал, что снов никогда не помнит, а я свои запросто могла бы пересказать. А еще он говорил мне, что увидеть во сне собственные руки – огромная редкость. Я же была уверена, что смогу их увидеть, если твердо решу их разглядеть, и эта убежденность вылилась в целую череду неудачных экспериментов. Отец усомнился в целесообразности этой затеи, но все равно взлом собственных снов стал первым пунктом в моем списке невозможных подвигов, которые надо совершить хоть разок.
В начальной школе мне часто выговаривали за невнимательность. Наверно, я была занята размышлениями о том, как увидеть свои руки во сне, или билась над загадками растущей паутины вопросов, которые, казалось, не имели ответа. Например, во втором классе уйма времени была потрачена на формулу “тысячи зерен”. Я размышляла над заковыристой фразой в “Истории Дэви Крокетта” Энид Мидоукрофт. Вообще-то мне не полагалось ее читать: книга стояла в шкафу для третьеклассников. Но меня потянуло к ней, я украдкой сунула ее в свой портфель и тайком прочитала. В маленьком Дэви я сразу же узнала себя: долговязый, неуклюжий, он, как и я, рассказывал несусветные байки, влипал в неприятности и забывал про поручения взрослых. Его папаня считал, что Дэви невелика цена – “этот мальчишка тысячи зерен не стоит”. Мне было всего семь лет, и на этих словах я забуксовала намертво. Что только имел в виду папаня? Я ночей не спала, думая об этом. Сколько стоит тысяча зерен? А найдется ли тысяча чего-то другого, равная по стоимости такому мальчику, как Дэви Крокетт?
Я шла по магазину за мамой, толкавшей перед собой тележку.
– Мамочка, а сколько может стоить тысяча зерен?
– Ох, Патриция, не знаю. Спроси у папы. Я повезу тележку, а ты сходи выбери себе хлопья, только не отставай.
Я быстро выполнила приказ – схватила с полки коробку пшеничных хлопьев с отрубями. А потом побежала в бакалейный отдел разузнать цену на зерна и там столкнулась с новой дилеммой. Какие зерна выбрать? У кофе – зерна, у кукурузы – зерна, у овса – зерна, у риса – зерна, каких только зерен не бывает. Я уж молчу про зерновой хлеб, зерненый творог и яблочные зернышки.
В итоге я рассудила, что никто, даже его папаня, не мог так просто установить, какова истинная цена Дэви Крокетту. Несмотря на все свои недостатки, Дэви усердно старался принести пользу и выплатил все деньги, которые задолжал его отец. Я читала и перечитывала запретную книгу, следуя за Дэви по путям, которые уводили мою мысль в совершенно неожиданных направлениях. А на случай, если собьюсь с пути, у меня был компас, который я нашла, расшвыривая ногами груду мокрых листьев. Компас был старый и ржавый, но все еще работал, соединял землю и звезды. Он сообщал мне, где я нахожусь и где запад, но не высказывался о том, куда я иду, ничего не говорил о том, велика ли мне цена.
Часы без стрелок
В начале было реальное время. Женщина входит в сад, где буйствуют краски. У нее нет памяти, а есть только неуемное любопытство. Она приближается к мужчине. Он не любопытен. Он стоит под деревом. Внутри дерева – слово, которое становится именем. Он впитывает в себя имена всех живых существ. Сливаясь с сиюминутным, он живет без амбиций и грез. Женщина тянет к нему руки, обуянная таинством чувства.
Закрываю блокнот и, сидя в кафе, размышляю о реальном времени. Это время, текущее непрерывно? Или только осознанное настоящее? Наши мысли – всего лишь транзитные поезда, идущие без остановок, двумерные, несущиеся мимо гигантских рекламных щитов с одинаковыми картинками? Выглядывая из вагона, успеваешь выхватить взглядом один кусок картинки, а из следующего, точно такого же кадра – другой кусок: так, что ли? Если я пишу в настоящем времени, но отклоняюсь от темы, остается ли это время реальным? Реальное время, рассудила я, невозможно разделить на части, подобные сегментам с цифрами на циферблате часов. Если я пишу о прошлом, пока одновременно пребываю в настоящем, остаюсь ли я в реальном времени? А может, вообще нет ни прошлого, ни будущего – есть только вечное настоящее, в котором содержится вся триада памяти? Выглядываю в окно на улицу, подмечаю, что освещение изменилось. То ли солнце скользнуло за облака. То ли время ускользнуло отсюда.
Бар “Аркада”, Детройт, Мичиган
Наша с Фредом жизнь обходилась без расписаний. В 1979 году мы обитали в отеле “Бук Кадиллак” в центре Детройта. Существовали, не задумываясь, который час, плыли сквозь дни и ночи, мало считаясь со временем. Могли сидеть и разговаривать до рассвета, а потом дрыхнуть до самого вечера. Проснувшись, искали какую-нибудь круглосуточную закусочную или сворачивали к мебельному магазину “Арт Вэн” и нарезали круги вокруг: в полночь магазин открывался, там бесплатно давали кофе и пончики с сахарной пудрой. Иногда мы просто ехали куда глаза глядят, а на заре останавливались у какого-нибудь мотеля в Сагино или в Порт-Гуроне, например, и спали весь день.
Фред любил бар “Аркада” около нашего отеля. Бар из тридцатых годов, где было несколько кабинок, гриль и огромные железнодорожные часы без стрелок, работал с утра. В “Аркаде” вообще не существовало времени – ни реального, ни какого-то еще и мы могли часами сидеть с горсткой тех, кто отбился от стада, сидеть и плести слова или смыслы в сочувственном молчании. Фред брал несколько кружек пива, я пила черный кофе. В одно такое утро в баре “Аркада”, созерцая огромные настенные часы, Фред вдруг придумал телепередачу. Это было в первые годы кабельного телевидения, и Фред прикинул, что такая передача могла бы идти в эфире WGPR, детройтского новаторского афроамериканского независимого телеканала. Рубрика Фреда “Нетрезвый полдень” транслировалась бы из царства часов без стрелок, не скованная ни временными рамками, ни ожиданиями, которое общество возлагает на человека. Приходил бы один-единственный гость, усаживался бы вместе с Фредом за стол под часами, и они бы просто выпивали и разговаривали вдвоем. Забирались бы в любые дебри, куда их увлечет общий хмельной восторг. Фред мог блистательно поддержать разговор на любую тему – хоть про волшебный замах гольфиста Тома Уотсона, хоть про Чикагские бунты, хоть про упадок железных дорог. Фред составил список потенциальных гостей из самых разных слоев общества. Первым в списке шел Клифф Робертсон, человек с непростым характером, актер фильмов категории “Б” – он разделял страсть Фреда к авиации и вообще был ему по душе.