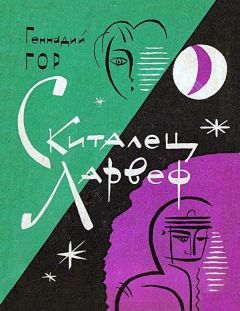М Алексеев - Ч. Р. Метьюрин и его "Мельмот скиталец"
Что касается самого мотива долголетия, то он, конечно, заимствован Метьюрином не из легенды об Агасфере, хотя он хорошо ее знал [71], а из других источников, среди которых находился роман Вильяма Годвина «Сент-Леон, повесть из жизни XVI столетия» («St. Leon, a tale of the sixteenth century», 1790), а также очень своеобразно претворенная им легенда о Фаусте.
Роман Годвина повествует о жившем во Франции в XVI в. графе Реджинальде Сент-Леоне, богатом и знатном, который однажды теряет все свое состояние за карточным столом. По совету своей кроткой и заботливой жены он бежит с нею в Швейцарию и находит там пристанище в полуразрушенной хижине на берегу Боденского озера. Однажды он принимает у себя обремененного годами старика, который вскоре умирает, открыв Сент-Леону известную ему тайну камня мудрости и эликсира жизни. Эта тайна возвращает Сент-Леону богатство, а приобретенный им секрет вечной молодости в конце концов становится для него источником горя и душевных мучений. Приобретая облик юноши, герой невольно становится соперником в любви собственного сына; посещает своих дочерей, не узнающих его. В Мадриде он попадает в руки Инквизиции, в темнице которой томится долгих двенадцать лет, однако счастливо избегает публичного сожжения, к которому приговорен Инквизицией за занятия чернокнижием, он испытывает множество приключений в разных странах, но богатство и долголетие, полученные с помощью лишь ему одному известной тайны, вызывают к нему недоверие и опасения всех, с кем он общается. В итоге он остается совершенно одиноким, живет в полном отъединении или, лучше сказать, отторжении от общества; по этой же причине его филантропические замыслы, которые он лелеял первоначально, терпят полную неудачу; никто не хочет пользоваться благами, которые он пытается расточать нуждающимся, и в конце концов, перед тем как открыть секрет жизненного эликсира отъявленному негодяю и человеконенавистнику, он становится мизантропом [72]. Нет никакого сомнения, что многие подробности увлекательного романа В. Годвина отозвались в «Мельмоте Скитальце» [73].
Более сложным представляется давно уже вызывавший споры вопрос о родстве «Мельмота Скитальца» с легендой о Фаусте. Высказывались предположения, что, создавая своего героя, Метьюрин вдохновился «Трагической историей доктора Фауста» Кристофера Марло. Эта догадка, впрочем, ничем не подтверждаемая, возникла на том основании, что Метьюрин не знал немецкого языка и не мог быть знаком с текстом первой части «Фауста» Гете до появления английского ее перевода. Между тем такой перевод, выполненный Джоном Анстерсом, как раз появился в английском журнале «Blackwood's Magazine» в 1820 г., приблизительно в то время, когда Метьюрин уже заканчивал свой роман о Мельмоте. Знакомство Метьюрина с этим первым английским переводом гетевского «Фауста» поэтому представляется возможным; сходство некоторых подробностей в обоих произведениях настолько заметно, что оно почти исключает возможность случайных совпадений. Так, судьба островитянки Иммали, когда она становится Исидорой де Альяга (в конце «Повести об индийских островитянах»), очень напоминает конец истории Маргариты и Фауста у Гете. Возвратившись в свою семью, дитя природы Иммали-Исидора под руководством духовника семьи Альяга получает образцовое католическое воспитание; отсюда ее тревога и увеличивающиеся опасения относительно человека, о котором она ничего не знает и в вероисповедании которого она сомневается. Напомним хотя бы беседу между Исидорой и Мельмотом перед их таинственной свадьбой [74] (в гл. XXIV четвертой книги). Исидора упрекает Мельмота в равнодушии к религии, в легкомысленном, несерьезном к ней отношении: «Ты… говоришь о нашей пресвятой вере такими словами, которые повергают меня в дрожь, ты говоришь о ней как об обычае страны, о чем-то внешнем, случайном, привычном. А какую веру исповедуешь ты сам? В какую ты ходишь церковь? Какие святые правила ты исполняешь?» — спрашивает она. «Я одинаково чту любую веру, одинаково уважаю обряды всех религий», — отвечает ей Мельмот, и «в эту минуту насмешливое легкомыслие напрасно старалось совладать с охватившим его вдруг безотчетным ужасом». «Так, выходит, ты в самом деле веришь в то, что свято?» — твердит Исидора. «„Ты в самом деле веришь?“, — в волнении повторила она». Сравним с этой беседой диалог, происходящий между Маргаритой и Фаустом в саду Марты (в 16-й сцене «Фауста» Гете):
Маргарита
Скажи ты мне прямей,
Как дело обстоит с религией твоей?
Ты славный, добрый человек, но к ней
Относишься как будто беззаботно.
Фауст
Оставь, дитя! Мою узнала ты любовь;
За близких сердцу рад свою пролить я кровь;
Не против веры я, кому в ней есть отрада.
Маргарита
Нет, мало этого: нам твердо верить надо.
Фауст
Да надо ли?
Маргарита
Ах, не найти мне слов,
Чтоб убедить тебя! Ты и святых даров
Не чтишь…
Фауст
Я чту их.
Маргарита
Да, но без охоты
Принять их. В церкви не был уж давно ты,
На исповедь не ходишь уж давно.
Ты в бога веришь ли?[75]
У Метьюрина на такой же вопрос Исидоры Мельмот бросает загадочную реплику: «Да, есть бог, в которого я верю, — ответил Мельмот голосом, от которого у нее похолодела в жилах кровь, — тебе приходилось слышать о тех, кто верует и трепещет: таков тот, кто говорит с тобой!» Слова, которые напомнил Мельмот ничего не подозревающей Исидоре, на самом деле были полны смысла: они взяты из входящего в Евангелие «Соборного послания апостола Иакова» (2, 19) и гласят: «И бесы веруют и трепещут» [76].
Таким образом, Исидора остается в неведении, с кем она соединяет свою судьбу, и это существенно, потому что, по мысли автора, все, что происходит с ней далее: смерть ее брата дона Фернана, убитого Мельмотом в коротком поединке, рождение и смерть ее ребенка, заключение в тюрьму — оставляет ей надежду на прощение невольной преступницы; мы находим во всем этом полную аналогию участи Маргариты у Гете [77].
Э. Бейкер в своей «Истории английского романа», без достаточных оснований и слишком категорично подчеркивая эклектичность Метьюрина как писателя, очень восприимчивого к разнообразным литературным воздействиям, был тем не менее одним из первых его исследователей, сделавших безусловно справедливое наблюдение: одно из важнейших преобразований Метьюрина при восприятии им отдельных мотивов из Гете заключалось в том, что он сплавил в единое целое в образе Мельмота Скитальца противостоящие у Гете образы Фауста и Мефистофеля [78].
Хотя Мельмот не сам искуситель или воплощение дьявольской силы, а всего лишь жертва, обреченная творить зло против воли, но в нем ярко проявляет себя критическое начало. Устами Мельмота в его беседах с разными людьми, попавшими в беду, с представителями человеческих обществ в различные периоды их исторического существования дается полная разоблачительной силы характеристика развития европейской христианской цивилизации, впрочем, не только христианской; в «Повести, об индийских островитянах», например, идет речь о различных религиях Индии, об изуверствах приверженцев всевозможных сект, борющихся к соперничающих друг с другом в самоистязаниях и самоистреблении; в речах, обращенных к Иммали, наивной островитянке, ничего не знающей об окружающем ее мире, Мельмот на свой лад объясняет ей мироздание и жизнь на земле. Он бесстрашно обнажает изнанку религиозного фанатизма любого происхождения и толка, подвергает суровому обличению все созданные человеком общественные установления и этические нормы, неисчислимые слабости и пороки, свойственные людям, где бы они ни жили и чем бы ни занимались. «Мельмотизм» и воспринимался читателями 20-х годов прошлого века прежде всего как наслешливое, едкое, подчас издевательское осуждение человеческих поступков и чувств, основанных на той нравственной системе, которая считает себя непогрешимой и самой справедливой, но на деле являющейся самообманом, питающимся несостоятельными иллюзиями, которыми тешат себя люди разных возрастов, исторических эпох или стран. Это и было своеобразное и претворенное Метьюрином «мефистофелевское» начало в образе Мельмота, столь привлекавшее к этому литературному герою внимание целой Европы первой трети XIX в.
У этой мефистофелевской стихии, однако, есть еще один исток, о котором не следует забывать. Разоблачение Мельмотом всех уродств общественной и нравственной жизни во всех частях тогдашнего мира, в особенности всех видов религиозного изуверства и фанатизма, по своей силе и едкой иронии нередко напоминает лучшие страницы писаний Джонатана Свифта, хорошо знакомые Метьюрину, бывшему большим почитателем ирландского сатирика, с судьбой которого в его собственной участи было так много общего. Существенное и бросающееся в глаза сходство критических размышлений Свифта и Метьюрина («в Мельмоте») заслуживало бы специального рассмотрения. Мы приведем здесь лишь несколько параллельных примеров.