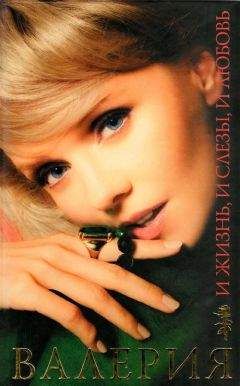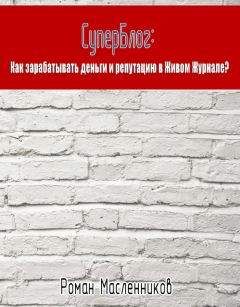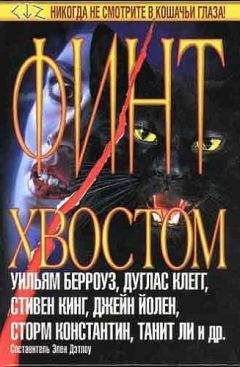Валерия Пустовая - Матрица бунта
Буддистская Россия, по-видимому, не выдумка Пелевина, а набирающий силу факт. Мне как христианке было досадно читать ответ героини на вопрос тибетца о ее вере: мол, “может, в России и есть религия, но у нас с Тэей ее не было”.
Припомнился и столь же характерный для современной культурной ситуации эпизод из “Рубашки” Евгения Гришковца: в одной из своих утешительных грез герой видит себя монахом, “но не православным, с длинной и непослушной бородой”. Борода, холод, кислая капуста, некрасивость, грубая работа — вот исчерпывающие ассоциации с христианством в новой Руси. О душеполезности перечисленного можно с героем поспорить — но вряд ли возможно переменить в нем совсем не святорусские представления о монашеском подвиге: “сложнейшие упражнения”, “спокойствие и сила”, “мой учитель”, “знающий всего меня насквозь”…
Итак, Лхаса — Четвертый Рим, Святая Русь кочует поближе к Индии. Дело тут даже не в том, что большинство соотечественников не имеет представления о старчестве (“мой учитель”), благодати (“просветление”), стяжании Царства Божьего (“Путь”), памятовании о смерти (“принятие жизни и принятие смерти, прощание с умершим и ритуал его оплакивания” до глубины души поражают героиню Кунсэль в Индии) и многом другом, что, в отличие от бороды и кислой капусты, составляет существо веры и будней христианина. Дело в том, что люди в данном случае не религию выбирают — а образ жизни.
Скажем, и в грезе героя “Рубашки” главное не абстрактные упражнения и наставления учителя, а волнующая перспектива “слышать дождь и отличать песню сверчка от трели цикады”, “видеть облака и понимать их”.
Что же ищет героиня в повести Кунсэль? Не религию, не “учение”, не правила жизни — как может показаться, если вычитать в повести один декларативный план, — а саму жизнь. Если вникнуть в рассказанную нам историю спасения заблудшей души, становится очевидным, что утешение и покой обрела героиня не на “Пути” буддиста (обращение в веру никак не изменило ее привычек, в том числе привычки к быстрым связям, не вооружило и против самоубийственного уныния) — но после рождения дочери, того самого тибетского ребенка.
В таком случае и первое посвящение в искомую “веру”, религию жизни, героиня получает не у буддийского учителя, а через ЛСД. Идеал мироощущения открывается ей: “После трипа я училась жить заново: я стала такой свободной, я могла плакать и смеяться, когда хотела. Мои эмоции ожили, мое тело ожило. Я чувствовала вибрацию жизни под ногами в душном метро…”, и выше: “Я впервые вижу этот мир. Оказывается, он цветной. Я впервые дышу. Оказывается, дышит все тело. Начинается дождь, <…> я впервые чувствую его — всем телом”.
Слышать дождь и различать песню сверчка (Гришковец), видеть цвета мира и дышать всем телом (Кунсэль) — тут не случайное совпадение мотивов. Не ту же ли жажду живого, “всем телом”, согласного с естеством существования провозглашал и нашумевший “Аватар”?
Бегство из христианской цивилизации означает и выход за пределы культуры слова, конец России как литературы.
В своем манифесте эона “множественной неопределенности облаков” российский композитор и философ Владимир Мартынов объявил “изменения или перемены” “высшей реальностью”[17]. Изменчивость — не только сюжет, но и главная ценность в повести Кунсэль. Недаром она исповедует Путь как самоценность, которая существует “вне зависимости от религии, или Бога, или Космоса”, а в интервью, опубликованном как послесловие к повести, говорит, что “у этого мира есть прекрасное свойство — меняться”.
Травма перемен, с которой так трудно сживалась постперестроечная Россия, обществу будущего непонятна. Развитие личности становится экстенсивным, направленным не на собирание самости, а на ее размывание. Отсюда первостепенное значение путешествия как поиска себя, самоценного дела жизни: человек новой культуры примеряет страны и обычаи, как юзерпики и никнеймы на сетевых форумах, в сетевых дневниках.
Героиня Кунсэль отправляется в путешествие не только географическое, но и внутреннее. Переимчивость, духовная подвижность героини, которая постоянно “перезагружает” сознание, — плод общества без границ, в котором переходы от партнера к партнеру, от увлечения к увлечению, из страны в страну, из веры в веру — из “своего” в “чужое” — доступны и нетравматичны.
Открытый, текучий внутренний мир нуждается в отключении самосознания, центра собирания личности. Сознание, рефлексия объявлены сегодня главными врагами человеческого развития и главными помехами в практике жизни.
Мартынов доверяет бессознательному, совершаемому во сне, безотчетно: “В состоянии сна наше сознание находится гораздо ближе к реальности, чем когда оно находится в состоянии бодрствования”. Так же и набравшие популярность лечебные и психотренинги (центр Норбекова, “Роза мира” и подобные) обучают клиентов трудному для европейского человека навыку не думать, отключать голову, доверять иррациональному импульсу.
Для христианской, европейской культуры это настоящий переворот. Бодрствование, самосознание — основа христианской жизни и одновременно книжной культуры, ориентированной на прочную связь жизненной практики и ее осмысления, дела и слова. Но место литературы занимает сегодня непосредственное жизнетворчество.
Происходит радикальная переоценка способов жизни, и жить — полномерно — становится важнее, чем писать.
“Обретая навык описания реальности, человек каким-то роковым образом утрачивает дар пребывания в ней”, — пишет Мартынов. Искусство нового эона в таком случае можно представить себе как чистую непосредственность: слияние предмета и его знакового обозначения, “описания” и “пребывания”, “творчества” и “жизни”.
Новая книга Мартынова “Время Алисы”[18] доказала, что именно в жизнетворчестве он видит будущее искусства. Так, приводя в пример музыку будущего, Мартынов предполагает, что она “не будет нуждаться уже ни в композиторе, ни в слушателе, ни в концертном зале, ни в нотной партитуре, ни в исполнителе, ни в критике, ибо ее звучание будет представлять собой единый всеохватывающий и всепроникающий поток, в который может погрузиться и из которого сможет напиться каждый ждущий и каждый желающий”. Иными словами, это будет музыка, которая “не является уже искусством”.
“Шоуцентризм” — так видит будущее культуры Мартынов. Но шоу в нынешнем смысле — помпезные, тяжеловесные композиции из дорогостоящей бутафории и разряженной массовки — тут никак не могут иметься в виду, они сверкают закатным, имперским блеском спектакля старого, традиционного. Шоу-искусство эона “облачных форм” я представляю себе как искусство соборного духовно-телесного действа, шоу-обряд. Масштабный флеш-моб, тренинг под открытым небом, ролевая игра с полной самоотдачей, интерактивный “спектакль”, который уже даже не шоу, потому что не показывает, а вовлекает. Такого рода “шоуцентризм” стимулирует стихийное творчество, будит художника в том, кто раньше оставался пассивным потребителем…
5
Но оставим попытки описания будущего, дабы не утратить дар пребывания в нем. Самым непосредственным итогом размышлений о “конце эона” должно стать понимание того, как быть, как действовать, как творить — сейчас, на рубеже эонов и цивилизаций.
“Сейчас плыть по течению значит разувериться в весомости и самостоятельности литературного дела”, — писала критик Ирина Роднянская в начале 90-х, уточняя “течение” как “инерционную приспособительность”, которую призвана “преодолевать” “творческая воля”. В этих словах критика — не только романтический напор, не только достойные восхищения верность избранному делу и вера в него, но и очевидная неготовность, несмотря на заглавие собственной статьи, вступить “в зону непредвиденного”. В позднейшем размышлении Роднянской о “пророках конца эона” (http://magazines.russ.ru/voplit/2010/1/ro1.html) категория “непредвиденного” и романтический бунт снова сополагаются, оказываются в связи: “По прошествии лет я нахожу в категории Непредвиденного источник терпения и мужества для противостояния тем временам, что на дворе”.
Но принять “Непредвиденное” и значит “плыть по течению”, а “противостояние” означало бы глухоту к той самой “промыслительной силе”, которую призывает критик в финале статьи для последнего суда над уходящим эоном.
Современную поэму “Двенадцать”, запечатлевшую наше плутание между эонами, — сорокинскую “Метель” — Дмитрий Быков воспринял как итоговый текст “нулевых”: “Русский мир в его прежнем виде завершен, и любые попытки сочинять литературу без учета этого факта будут напоминать распил опилок” (“Что читать”, 2010, № 5).