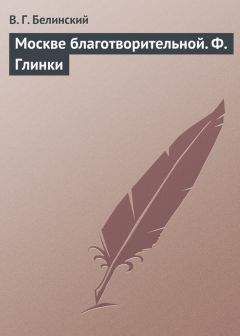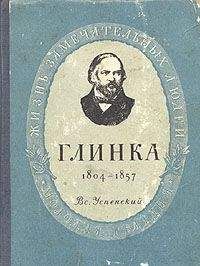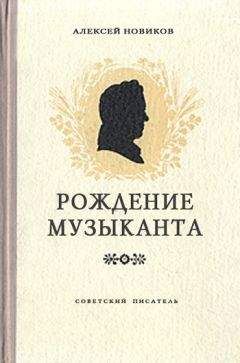Владимир Стасов - Михаил Иванович Глинка
Последним сочинением его в Италии было трио для фортепиано, кларнета и фагота, писанное во время самого бедственного болезненного расположения. «Во время исполнения моего секстета (в начале 1833 года), я помню, что от действия приставленного мне пластыря у меня немели руки и ноги до такой степени, что я щипал себя, чтоб убедиться, что в них еще сохранилась жизнь. Но я все-таки кое-как боролся с страданиями и писал трио. Мои приятели, артисты délia Scala Tassistro на кларнете и Cantu на фаготе, мне аккомпанировали, и по окончании финала последний сказал с изумлением: „Ma questo è disperazione!“ (Да это отчаяние!). И действительно, я был в отчаянии: от ежедневно возобновляемого пластыря у меня члены немели, меня душило, я лишился аппетита и сна и впал в то жестокое отчаяние, которое выразил я в вышеупомянутом трио…» «Я садился за фортепиано и невольно извлекал фантастические звуки, в коих отражались фантастические, тревожившие меня ощущения. Но это чрезвычайное раздражение нервной системы подействовало не на одно только воображение. Из неопределенного и сиповатого голоса образовался у меня вдруг сильный, звонкий, высокий тенор, которым я потешал публику с лишком пятнадцать лет, да и теперь еще под иной час вытяну два или три романса».
Под конец пребывания Глинки в Италии (в первой половине 1833 года) в нем, как кажется, впервые сказалось сознание своих сил и истинная натура его таланта. «В это время, — говорит Глинка, — я не писал, но много соображал. Все написанные мною в угождение жителей Милана пьесы (изданные весьма опрятно Giovanni Ricordi) убедили меня только в том, что я шел не своим путем и что я искренно не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски… Немалого труда стоило мне подделываться под итальянское sentimento brillante, как они называют ощущение благосостояния, которое есть следствие организма счастливо устроенного, под влиянием благодетельного южного солнца. Мы, жители Севера, чувствуем иначе: впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу; у нас или неистовая радость, или горькие слезы. Любовь, это восхитительное чувство, животворящее вселенную, у нас всегда соединена с грустью. Нет сомнения, что наша русская заунывная песня есть дитя Севера, а может быть, несколько передана нам жителями Востока: их песни так же заунывны, даже в счастливой Андалузии. Иван Акимович (Колмаков) говорил: „Послушай поволжского извозчика, песня заунывна, слышно владычество татар; пели, поют, довольно!“ Хотя мысли эти не совсем справедливы, хотя русский характер не требует исключительно минорности (как я буду иметь случай говорить о том ниже, по поводу „Жизни за царя“ и „Руслана“), но в настоящем случае нам важно не оспаривать эти положения, а указать только на то, что Глинка почувствовал потребность отдалиться от итальянского способа сочинения (что, однакоже, удалось ему не сразу) и отдаться стремлениям совсем иного свойства.
Под влиянием такой решимости, тоски по родине и болезней Глинка в июле 1833 года уехал из Италии. Он на некоторое время остановился в Вене, где слушал оркестры Ланнера и Штрауса [15], а сам твердил на фортепиано вариации Герца. Тут провел он несколько приятных дней с знакомыми русскими семействами, много фантазировал [16] и, наконец, уехал в Берлин. Здесь случай, этот могущественный деятель в судьбе человеческой, свел его, вследствие рекомендации одного знакомого, с профессором Деном — знаменитым в Европе теоретиком и библиотекарем музыкального отделения Берлинской королевской библиотеки. Глинка стал брать у него уроки музыкальной теории в продолжение пяти месяцев. „В самое короткое время, — говорит Глинка, — он узнал степень сведений моих и способностей и распорядился так: задавал мне писать трехголосные, а потом четырехголосные фуги, или, лучше сказать, скелеты, экстракты фуг без текста, на темы известных композиторов, требуя при этом соблюдения принятых в этом роде композиций правил, т. е. соблюдения экспозиции, стретт и педали. Он привел в порядок мои теоретические сведения и собственноручно написал мне науку гармонии, или генерал-бас, и науку мелодии, или контрапункт и инструментовку, все это в четырех маленьких тетрадках. Я хотел отдать их напечатать, но Ден не изъявил на то согласия. Нет сомнения, что Дену обязан я более всех других моих maestri; он, будучи рецензентом „Музыкальной лейпцигской газеты“, не только привел в порядок мои познания, но и идеи об искусстве вообще, и с его лекций я начал работать не ощупью, а с сознанием. Притом же он не мучил меня школьным и систематическим образом; напротив, всякий почти урок открывал мне что-нибудь новое, интересное. Однажды дал мне тему, состоявшую из восьми тактов, с тем, чтоб я написал на нее скелет фуги к следующей лекции. Тема эта походила более на речитатив, нежели на удобную для фуги мелодию, и я тщетно хлопотал над нею. На следующей лекции он еще раз попросил меня заняться этою темой; и также я бился с нею понапрасну. На третью лекцию Ден явился с огромною книгою, содержавшею фугу Генделя на ту тему, с которою я не мог совладать. По рассмотрении ее оказалось, что вся разработка великого композитора была основана на восьмом такте, первые же семь тактов проявлялись только изредка. Одним этим соображением я постиг, что такое фуга“.
Впоследствии, вспоминая эти пять месяцев учения Глинки, Ден писал ему (3 апреля 1856 года): „Наконец-то теперь, после долгих, долгих лет, опять я насладился тем счастьем, что снова имел талантливого ученика, который (к величайшему моему удовольствию) прошел всю школу. Как часто, любезный друг, вспоминал я о вас во время этих уроков! У него, правда, нет вашего мелодического производительного таланта, но все-таки его способности помогут ему развить тонкий образованный вкус“ [17].
Ден как бы сожалеет, что Глинка не прошел с ним всю школу, но на это недостало бы и времени. Глинка, после пяти месяцев пребывания в Берлине, должен был возвратиться в Россию по случаю внезапной смерти отца. Едва ли должно сожалеть о кратковременности этих уроков. Я не стану рассматривать того вопроса: хорош ли действительно был метод Дена или нет? [18] Если, по признанию Глинки, этот метод лучше всех остальных способов развил способности и познания Глинки, то ничего больше нам не нужно желать и требовать от него.
Но и в Берлине Глинка не мог довольствоваться одними уроками: сознание новой определенной цели композиторства сильно работало в нем и вынуждало к немедленной деятельности, и, таким образом, в самое короткое время он написал значительно много. Сначала два романса: „Дубрава шумит“ на слова Жуковского и „Не говори, любовь пройдет“ на слова Дельвига; потом — вариации для фортепиано на „Соловья“ Алябьева, попурри на несколько русских тем в четыре руки (в этой последней пьесе, говорит Глинка, видно поползновение на контрапункт), этюды, увертюры-симфонии на круговую (русскую тему), которая, впрочем, была разработана по-немецки.
„Мысль о национальной музыке (не говорю еще оперной) более и более прояснялась; я сочинил тему: „Как мать убили“ (впоследствии песнь сироты в „Жизни за царя“) и первую тему allegro увертюры. Должно заметить, что я в молодости, т. е. вскоре по выпуске из пансиона, много работал на русские темы“. Сверх того, еще в Вене была сочинена тема, послужившая впоследствии для краковяка (в середине, B-dur) в „Жизни за царя“.
Но посреди всех этих занятий его застигло известие о кончине отца, и вследствие того, в апреле 1834 года, Глинка воротился в Россию. Прожив до июня в деревне, он потом поехал в Москву навестить одного товарища по пансиону, М[ельгунова]. „В мезонине, — говорит Глинка, — жил Павлов, автор впоследствии известных повестей; он дал мне свой романс „Не называй ее небесной“, незадолго до того им сочиненный, который я положил на музыку при нем же. Сверх того, запала мне мысль о русской опере; слов у меня не было, а в голове вертелась „Марьина роща“, и я играл на фортепиано несколько отрывков сцен, которые отчасти послужили мне для „Жизни за царя“. Притом же я хотел показать и публике, что недаром странствовал по Италии. У М. собиралось несколько семейств высшего московского общества, я пел и играл свои сочинения, и эти последние, кажется, с аккомпанементом струнных инструментов“. Один из любимейших товарищей Глинки, М., о котором мы сейчас только упомянули, говорит в своих воспоминаниях о Глинке: „Восторг, который Глинка произвел в Москве (между художниками и любителями) своими сочинениями, игрой и пением, был им в полной мере заслужен. Вместо любителя, каким прежде привыкли его почитать, мы нашли в нем, по возвращении, истинного художника, воспитавшего и посвятившего себя для любимого искусства. Глинка уехал от нас как дилетант, возвратился как маэстро“.
Глинка имел твердое намерение до зимы еще снова уехать в Берлин, куда его призывало воспоминание одной недавней сердечной привязанности, и он приехал в Петербург с целью все устроить для этой поездки, и, действительно, все было скоро готово, но прежняя склонность охладела и сменилась по приезде в Петербург новою, гораздо более горячею: он медлил, зима наступила, и он остался в Петербурге. Во все продолжение жизни Глинки привязанности сердечные имели всегда самое решительное влияние на судьбу его и на появление не только замечательнейших и самых горячих, искренних, но даже и вообще всех художественных его произведений. В настоящем случае, когда он приступал к первому великому своему созданию, к опере, подобное же влияние разыграло в судьбе этого произведения самую важную роль. Если б не новая склонность Глинки (имевшая последствием его женитьбу), он, по всей вероятности, уехал бы в чужие края, и тогда создание лучших его произведений, которые все относятся к эпохе этих десяти лет [19], отодвинулось бы на бог знает сколько времени; лучшие, сильнейшие его годы оставили бы менее великие для художества результаты, как Глинка сам говорит в одном из своих заграничных писем 40-х годов; он мог создавать только в России свои национальные произведения. Ему необходимо было и русское окружение и русское общество; ему нужны были товарищи по взглядам, по воспитанию, по искусству, по понятиям; нужен был артистический кружок, полный деятельности и жизни. Когда Глинке недоставало такого общества с его могущественным, ничем не заменимым возбуждением, он опустил крылья и перестал работать… Но если даже в России в известный период своей жизни он был лишен такого окружения, столько ему необходимого, то еще менее мог бы он найти его в чужих краях когда бы то ни было. Путешествие за границу в 1834 году и, без сомнения, долгое там пребывание имели бы, по всей вероятности, гибельные последствия для артистической деятельности и судьбы Глинки. Вспоминая об этом путешествии в письме к матери от 1 мая 1836 года, он говорит про свою жену через несколько дней после своей свадьбы: „Она вам возвратила вашего сына; если б я отправился в Берлин, погиб бы невозвратно“. В этот раз также счастливая звезда его устроила для него все к лучшему.