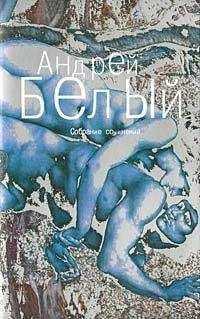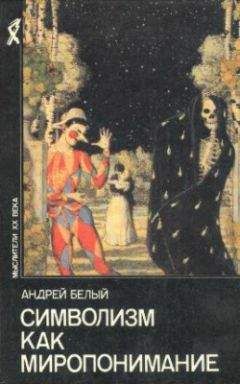Андрей Белый - Почему я стал символистом...
Поэтому я был бесконечно утешен теплым и дружеским подбодром неожиданно ко мне подошедшего М. О. Гершензона, вовремя сказавшего: «Вы правы в вашем негодовании; действуйте и впредь так же; лучше грубыми ударами напасть на совершающееся зло, чем стыдливо умыть руки».
И несмотря на то что я получил лишь заушения за свою роль полемиста, я в 1928 году, через более чем 20-летие, утверждаю в основном пафос своего налета на «соборный индивидуализм».
Если бы в «Арабесках» и «Символизме» не осталось следов моего «нет» всяким «мистикам», то десятки транскрипций символизма в бездарных и тупых книгах о нем всевозможных Шуваловых не имели бы фактических опровержений в виде подлинного текста статей, написанных в 1906 1908 годах; их не закроешь никакими фальшивками; кто-нибудь явится и скажет современным истолкователям: «Что вы врете? Ведь вот что писали символисты».
7
Иногда я горько грустил; все устремление мое написать «Теорию символизма» в серьезном, гносеологическом стиле разбивалось о полемику, очередные «при» и журнальные темы дня; я все более и более сознавал свое теоретическое одиночество даже среди символистов. Три года упорной журналистики вдребезги разбили выношенную в сознании систему символизма; и «65» статей дребезги этой недонесенной до записи передо мной стоящей системы. Как ни старался я использовать заказы минуты, просовывая в них контрабандой кусочки теоретических мыслей, обрывки платформ «школы», цельной картины моих мыслей и не могло получиться; она всегда разбивалась здесь о задачу дня (концерт «Дома Песни»), там об очередной юбилей или смерть; ну что скажешь о культуре в статье «Песнь жизни», когда она приурочивалась к произнесению в день открытия «Дома Песни»; на теорию символизма морщился д'Альгейм за то, что символизм оттеснял его «Дом», а за теоретические рассуждения, втиснутые в очередную тему «Пшибышевский», могла обидеться Комиссаржевская, пригласившая меня в свой театр выступить со словом о Пшибышевском.
Мои 65 статей напоминают мне тугие колбасы, набитые двумя начинками: начинкою «темы дня» с подложенными в тему кусочками мыслей о символизме; эти последние всегда «контрабанда»; а между тем из сложения контрабандных кусочков и выявилось кое-что из ненаписанной мной системы. Перечитывая теперь грустное сырье «Символизма», «Арабесок» и «Луга зеленого», я вздыхаю: все дельное там контрабанда; а все устаревшее тогдашняя тема дня. С все большей грустью я продолжал калечить ненаписанный остов системы, с все большею неохотою возвращаясь к полемике, тактике, ибо мне открылась подлинная картина московского «тыла» в борьбе символистов; в «тылу», в «штабе», где заседал Брюсов, нами провозглашенный вождь, с удовольствием относились к обкладыванию петербуржцев и с сонным зевком к заданиям и теориям «символической школы»: Брюсов, Ликиардопуло, Борис Садовской; и еще сколькие. Выяснилась и мелочность Брюсова, более всего занятого карьерой в «кружке» и среди миллионерш; я стал упираться, когда меня запрягали в работу; но меня подтаскивали к ней уже мои личные друзья (С. М. Соловьев и Эллис), в то время гипертрофировавшие роль Брюсова как «лидера».
Открывался и «Дон-Кихотизм» с утопией «школы»; было ясно, что кризис символизма произошел; символисты символизм прозевали.
Меня утешает, что ради утопически воображенной фаланги бойцов, разрывая в себе идеолога, я действовал во имя моральной идеи: служения делу пусть с мечом в руке, а не с «оливой мира»; да, сердечность под формою гнева есть оправдание растоптанию книги и горьким словам, не всегда справедливым; не забудьте, что суетливые жесты статей суть жесты тушения пожара; этим тушением я был во второй половине 1909 года настолько измучен, что даже отказался от «Мусагета», как дела интимной группы друзей; если бы не настойчивость А. С. Петровского в те минуты, я ответил бы на предложение Метнера об издательстве телеграммой отказа; вмешательство А. С. в мою прострацию с его решительным «Мусагету быть» определило судьбу ближайших лет.
Метнер предлагает спешным порядком печатать мои статьи; и я, с ужасом видя, что это «осколки» разбитого здания, воздвигнутого в сознании, вдогонку уже набираемому «Символизму» пишу в 10 дней свою «Эмблематику смысла», долженствующую хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связном виде; «Эмблематика» черновик предисловия к будущей системе, в котором ответственнейшие места испорчены невнятицей только спешного изложения, а не невнятицей мысли; будь хоть неделя в запасе, эта невнятица была бы элиминирована; и точно так же вдогонку пишу «Магию слов», «Лирику как эксперимент», «Опыт описания ямба», «Морфологию ямба» и «Не пой, красавица»; в этих сырых статьях влит кое-как тщательно подобранный за четыре года материал для изучения ямба: задание этих статей в «Символизме» конкретно выявить лозунг «школы» (единство формы и содержания со стороны формы); единство формы и содержания, рассмотренное со стороны содержания, материал статей «Луга зеленого» и «Арабесок». Одновременно в два месяца я пишу 200-страничный комментарий к «Символизму»; вписывая в него эмбрионы ряда статей, которые мне хотелось бы видеть в разработанном виде; например: в голове проносилась большая статья, анализирующая Кантово учение о схематизме понятий в прочтении этого учения теорией символизма; и отсюда мерещился разгляд всей Кантовой аналитики «Критики чистого разума» в новом свете; но вместо статей две странички петита в «Символизме». Странно сказать: «Символизм» построен не планом автора, а 1) заказами минут, 2) бешеным темпом набора, зависящим не от меня, а от администраторов «Мусагета».
И оттого-то этот пухлый, безалаберный до ужаса том столь же написан типографией, как и мною.
Если же принять во внимание, что в это же время я дописываю (к сроку же) «Серебряный голубь», то удельный вес работ этого времени по всей справедливости должен бы определяться не под углом зрения их выношенности, а под углом зрения спорта: скачек с препятствиями. Во всех этих неурядицах с текстом меня утешало одно: возможность спокойно заработать над «Теорией Символизма» в будущем.
Линия моего поведения в начале 1910 года четка: московской «школы» нет (действительность это мне показала); но и петербургской «школы» тоже нет: мистический анархизм, испортив несколько важных страниц истории русского символизма для будущего историка, исчез тоже (в этой порче для будущего, вероятно, и была его миссия).
Стало быть: фактических групп нет; но есть «символизм»; меня интересует 1) его гносеология, 2) его культура; Э. К. Метнер попутчик в символизме; но он трубадур от культуры Гете, Канта, Бетховена; Эллис с его латинизацией символизма мне чужд; я стою на позиции «русского» символизма, имеющего более широкие задания связаться с народной культурою без утраты западного критицизма; остальные мусагетцы символизму гетерогенны, а в тройке (я Метнер Эллис) я с Метнером против Эллиса и отчасти Петровского и Н. П. Киселева определенно стою за связь с международным философским журналом «Логос» в лице его представителей (Степуна, Яковенки, Гессена); издаваемый «Логос» правое ответвление «Мусагета», наглядно изображающее мой лозунг 1904 года: символизм плюс критицизм; левое ответвление, соответствующее моей сфере Символа, куда я переношу искание опыта, эсотерики и братства, «Орфей»; так, сферы Символа, символизма, символизации представлены сферами Орфей Логос Мусагет под общим куполом «Издательство Мусагет».
Но тут-то и нарушается гармония в понимании соотношения сфер между мной и Метнером; я вместе с Петровским, Сизовым и Киселевым понимаю идею триады, как три концентрических круга по старому лозунгу, ставящему сферу «символа» в центр; и этот центр мне «Орфей»; «Мусагет», собственно, как сфера культуры символизаций, определяется «Орфеем», а «Логос», или критическая бронировка, оказывается периферией. Метнер, воля «Мусагет» центральным и видя мой переход к «Орфею», усиливающий «орфейцев», сперва тактически, потом полемически и, наконец, идеологически педалирует на «Логос», в свою очередь сильно укрепленный целой группой русских философов с их дядькою, профессором Б. А. Кистяковским; в «Орфее» неожиданно появляется Вячеслав Иванов; Метнер, фактически, с «Логосом». И мусагетский центр, спайка, опустошен; в нем оказывается как-то забытый Эллис, по осо6ым цричинам не могущий сойтись и с орфеиками и не принятый философами «Логоса». Тогда он, увлеченный своими внутренними исканиями, собственно вне «Мусагета» организует с художником Крахтом кружок «Новый Мусагет», «Мусагет» в момент рождения оказывается уже «старым»; и, главное, пустым и в центре его имеет место: самопроизвольное разрастание цилиндра Кожебаткина (ставшего секретарем «Мусагета» и одновременно заходившего в цилиндре).