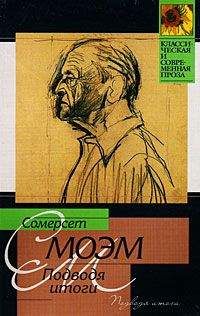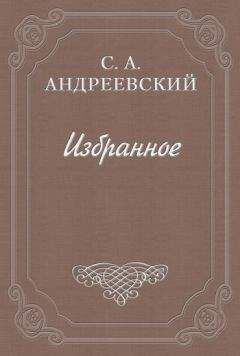Сомерсет Моэм - Подводя итоги
Я не наделен всеобъемлющим сочувствием и пониманием. Я могу быть только самим собой, а сам я — частью от природы, частью в силу обстоятельств — существо ограниченное. Я не общителен. Я не способен напиться и проникнуться любовью к людям. Застольное веселье всегда было мне скучно. Когда в пивной или в лодке на реке поют песни, я молчу. Я даже в церкви никогда не пел. Я не люблю, чтобы ко мне прикасались, и, когда меня берут под руку, мне нужно сделать над собой усилие, чтобы не отодвинуться. Я не умею забывать о себе. Истеричность окружающего мира мне претит, и нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или столь же бурным горем. Я любил немало женщин, но ни разу не познал блаженства взаимной любви. Я знаю, что лучше ее жизнь ничего не может дать и почти все люди хотя бы короткое время ею наслаждались. Я же сильнее всего любил тех, кому был более или менее безразличен, а когда любили меня, испытывал только смущение, терялся и не знал, что делать. Чтобы не оскорбить чувства женщины, я часто разыгрывал несуществующую страсть. По возможности мягко, а то и не скрывая досады, я старался разорвать сети, которыми опутывала меня любовь. Я ревниво оберегал свою независимость. Я не способен до конца отдать себя другому. И, конечно, поскольку мне неведомы некоторые из самых обычных чувств нормальных людей, в произведениях моих нет и не может быть той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих писателей.
XXIII
Пускать публику за кулисы опасно. Она легко теряет свои иллюзии, а потом сердится на вас, потому что ей нужна была именно иллюзия; она не понимает, что для вас-то самое интересное то, как иллюзия создается. Энтони Троллопа перестали читать и не читали тридцать лет, после того как он признался, что писал регулярно, в определенные часы, и заботился о том, чтобы получать за свою работу возможно больше денег.
Но мой путь уже почти окончен, и мне было бы не к лицу скрывать правду. Я не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я того заслуживаю. Пусть те, кому я нравлюсь, принимают меня как есть, а остальные не принимают вовсе. У меня больше силы характера, чем ума, и больше ума, чем природного таланта. Что-то в этом роде я сказал много лет назад одному очень милому и умному критику. Не знаю, как это вышло, вообще-то я не склонен говорить о себе. Было это в первые месяцы войны, в Мондидье, где мы завтракали по дороге в Перонн. Перед этим на нас навалилось очень много работы, и приятно было посидеть за едой, которая, на наш здоровый аппетит, казалась необычайно вкусной. Вероятно, меня подогрело вино, а может, я был взволнован открытием, что в Мондидье, как явствовало из статуи на рыночной площади, родился Пармантье, человек, который ввез во Францию картофель. Так или иначе, когда дело дошло до кофе и ликера, я с превеликой откровенностью и знанием дела занялся оценкой собственного таланта. Через несколько лет я не без смущения обнаружил ее, почти слово в елово, на страницах одного известного журнала. Это меня немного уязвило — ведь совсем не одно и то же говорить правду о себе и слышать ее от других, и уж, во всяком случае, критик мог хоть из вежливости упомянуть, что узнал все это от меня самого. Но, подумав, я счел вполне естественным, что он приписал себе такую проницательность. А кроме того, это была правда. Для меня это обернулось не очень удачно: упомянутый критик пользуется заслуженным авторитетом, и то, что он сказал в своей статье, многие затем повторяли. А еще как-то раз я в минуту откровенности сообщил своим читателям, что я — человек достаточно сведущий. Можно подумать, что без моей помощи критики нипочем не додумались бы до этого; но тут они стали применять ко мне это определение часто и неприязненно. Мне до сих пор не понятно, почему столько людей, связанных, хотя бы косвенно, с искусством, смотрят на сведущего в своем деле писателя так неодобрительно.
Мне объяснили, что певцом можно родиться и можно им стать. Разумеется, и во втором случае какие-то голосовые данные необходимы, но основное здесь — выучка; вкус и музыкальность могут возместить такому певцу недостаток голоса, и пение его будет доставлять большое удовольствие, особенно знатокам; но никогда он не взволнует вас так, как волнует чистый, сильный голос певца-самородка. Пусть певцу-самородку не хватает выучки, пусть у него нет ни знаний, ни вкуса, пусть он нарушает любые каноны искусства — все равно его голос покоряет вас. Когда эти волшебные звуки ласкают ваш слух, вы прощаете певцу и вульгарность, и вольности, которые он себе позволяет, и то, что воздействие его — чисто эмоциональное. Я не родился писателем, я им стал. Но было бы тщеславием воображать, будто результат, которого мне удалось достигнуть, объясняется тем, что я выполнял заранее обдуманный план. Побуждения, руководившие мною в жизни, были очень простые, и, только оглядываясь на прошлое, я вижу, что бессознательно стремился к определенной цели. Этой целью было развить свою личность, чтобы восполнить недостаток врожденных способностей.
У меня ясный и логический ум, не очень тонкий и не очень мощный. Я долго был им недоволен. Я выходил из себя, когда он отказывался меня слушаться. Так чувствовал бы себя математик, умеющий только складывать и вычитать и знающий, что заняться более сложными вычислениями он при всем желании не способен. Прошло много времени, пока я примирился с мыслью, что надо наилучшим образом использовать то, что имеешь. Я думаю, что моего ума хватило бы на то, чтобы достигнуть успеха в любой выбранной мною профессии. Я не принадлежу к тем, кто ничего не смыслит вне своей специальности. А ясный ум и умение разбираться в людях полезны и юристу, и врачу, и политическому деятелю.
Одно преимущество у меня есть: я никогда не ощущал недостатка в сюжетах. У меня всегда было больше рассказов в голове, чем времени для их написания. Нередко я слышал от писателей жалобы, что им-де хочется писать, но не о чем, а одна известная писательница даже рассказывала мне, что в поисках темы просматривает некую книгу, в которой собраны все сюжеты, когда-либо использованные в литературе. Таких затруднений я никогда не испытывал. Свифт, как известно, утверждал, что можно писать о чем угодно, и, когда ему предложили написать рассуждение о метле, очень неплохо справился с этой задачей. Я почти без преувеличения могу сказать, что берусь написать сносный рассказ о любом человеке, с которым провел час времени. Приятно иметь в запасе столько рассказов, что, в каком бы настроении ты ни был, всегда найдется, чем занять свое воображение и час-другой, и неделю. Мечты — это основа творческой фантазии; преимущество художника в том, что для него, в отличие от других людей, мечты — не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Его мечты не" бесплодны. Они доставляют ему наслаждение, перед которым бледнеют чувственные радости, и дают ощущение уверенности и свободы. Понятно, что порой ему не хочется отрываться от них ради нудного сидения за столом и утрат, неизбежных при закреплении их на бумаге.
Но хотя выдумка у меня богатая — что неудивительно, поскольку мир так богат разнообразными людьми, — большой силой воображения я не наделен. Я беру живых людей и выдумываю для них ситуации, трагические или комические, вытекающие из их характеров. Можно сказать, что они сами выдумывают о себе истории. Я не способен на долгий полет, не уношусь на могучих крыльях в надзвездные сферы. Фантазию мою, от природы умеренную, всегда сдерживает мысль о жизненной достоверности. Мое дело — станковая живопись, а не фрески.
XXIV
Я от души жалею, что в молодости около меня не было никого, кто мог бы разумно руководить моим чтением. Со вздохом я вспоминаю, сколько времени потратил на книги, не принесшие мне особой пользы. Те немногие указания, какие я в этом смысле получил, исходили от одного молодого человека, с которым мы вместе жили в семейном пансионе в Гейдельберге. Я назову его Браун. В то время ему было двадцать шесть лет. Он учился в Кембридже, стал адвокатом, но, так как юриспруденция пришлась ему не по вкусу, а кое-какие средства, по тем временам достаточные, чтобы прожить, у него были, решил посвятить себя литературе. В Гей-дельберг он приехал учиться немецкому языку. Я поддерживал с ним знакомство сорок лет, до самой его смерти. Двадцать лет он тешил себя мыслью о том, что он напишет, когда всерьез возьмется за дело, а еще двадцать лет — о том, что он мог бы написать, обойдись с ним судьба более милостиво. Он писал стихи. У него не было ни воображения, ни страсти, ни поэтического слуха. Несколько лет он занимался переводом тех диалогов Платона, которые и до него переводили чаще всего. Но едва ли он закончил хоть один из них. Силы воли у него не было ни малейшей, зато тщеславия и сентиментальности хоть отбавляй. Он был небольшого роста, но красив, с тонкими чертами и вьющейся шевелюрой; глаза голубые, выражение печальное — точь-в-точь такими принято представлять себе поэтов. В старости, после жизни, прожитой в полном безделье, он был худ и лыс и вид имел аскетический, так что мог сойти за ученого, проведшего долгие годы в упорном, самозабвенном труде. В его одухотворенном лице читался усталый скептицизм философа, который исследовал все тайны жизни и убедился, что все — суета. Понемногу растратив свое скромное состояние, он все же предпочитал не работать, а жить чужими щедротами, и порой ему нелегко бывало сводить концы с концами. Но свое благодушное самодовольство он не утратил. Оно помогало ему сносить бедность безропотно, а неудачи — равнодушно. Едва ли ему хоть раз пришло в голову, что он — бессовестный обманщик. Вся его жизнь была ложью, но я убежден, что он и в свой последний час (если б только знал, что умирает, от чего милостиво был избавлен) сказал бы, что прожил ее не зря. Он был обаятелен, совершенно чужд зависти и хотя по эгоизму своему никогда никому не помог, но и обидеть человека был неспособен. Литературу он по-настоящему любил и ценил. Во время наших долгих прогулок по горам вокруг Гейдельберга он рассказывал мне о книгах. Рассказывал он также об Италии и Греции, хотя, в сущности, ничего о них не знал, но он зажег мое юношеское воображение, и я стал заниматься итальянским. Все, что он говорил мне, я воспринимал с горячей верой неофита. Я не хочу осуждать его за то, что книги, которыми он учил меня восхищаться, не все на поверку оказались достойными восхищения. Когда он приехал в Гейдельберг, я как раз читал «Тома Джонса», и он заметил, что в этом, разумеется, ничего дурного нет, но лучше бы я прочел «Диану из Кроссуэйз». Уже тогда он увлекался Платоном и дал мне читать «Пир» в переводе Шелли. Он толковал о Ренане, о кардинале Ньюмене, о Мэтью Арнольде. Впрочем, Мэтью Арнольд, по его мнению, сам был отчасти филистером. Он толковал о «Поэмах и балладах» Суин-берна и об Омаре Хайяме. Многие из его четверостиший он знал наизусть и читал мне во время наших прогулок. Я приходил в восторг от их эпикурейской романтики, но декламация Брауна повергала меня в смущение — впору было подумать, что священник высокой церкви читает молитву в полутемном склепе. Но было два писателя — Уолтер Патер и Джордж Мередит, которыми мне предписывалось восхищаться в первую очередь, если я хотел быть культурным человеком, а не английским филистером. Ради такой чести я был готов на все и прочел «Как обрили Шагпата», покатываясь со смеху — до того уморительной показалась мне эта аллегория. Потом я стал читать романы Мередита один за другим. Я решил, что это — замечательные вещи; впрочем, не столь замечательные, как я внушал даже самому себе. Восхищение мое было надуманное. Я восхищался, потому что так подобало культурному молодому человеку. Я опьянялся собственными восторгами. Я не желал прислушиваться к внутреннему голосу, упорно твердившему «нет». Теперь-то я знаю, что в этих романах много высокопарного вздора. Но странно то, что, перечитывая их, я точно возвращаюсь к тем дням, когда прочел их впервые. Они связаны для меня с солнечным утром, с пробуждением моего ума, с чудесными юношескими грезами, так что стоит мне, закрыв роман Мередита, скажем «Эвана Гаррингточа», решить, что неискренность его вопиюща, снобизм противен, а многословие невыносимо и что я никогда больше не прочту ни строчки этого писателя, — как сердце мое тает и я думаю: до чего хорошо!