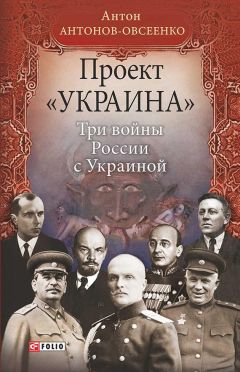Антон Антонов-Овсеенко - Большевики, 1917
Вероятно, исходя из сомнительной разницы между расстрелом и повешением, социалист (тогда ещё не вполне большевик) Антонов-Овсеенко, будучи арестованным во время перестрелки с жандармами в Севастополе в 1906 г., скрыв своё настоящее имя и офицерское звание, представился на суде Антоном Кабановым, и его как гражданского приговорили к повешению, заменённому по ходатайству социал-демократической фракции Госдумы 20-летней каторгой. Но, подпоив охрану, Антонов-Овсеенко вместе с другими заключенными взорвал стену тюрьмы и бежал. Именно такие люди вели войну не на жизнь, а на смерть с самодержавием, этим людям противостоял Пётр Столыпин вместе со всей мощью государственного аппарата.
Между тем к максимально жёстким мерам правительство подталкивала повсеместно сопровождавшая политические выступления уголовщина, примеры чему мы уже здесь приводили: для государства в таком случае становится не важным, из каких побуждений действовал преступник — из политических или с целью наживы. Видимо, из этого исходил и Столыпин, когда проводил в жизнь Положение о военно-полевых судах, тем более что сами революционеры своими действиями, кажется, провоцировали его на это: в августе 1906 г. от взрыва, устроенного на даче Столыпина на Аптекарском острове, погибли и были ранены несколько десятков человек, в том числе двое его собственных детей. Тут уж не до любезностей с «политическими»: маховик репрессий заработал на полную мощность.
Правда, в деятельность правительства постоянно вмешивалась и II Госдума, столь же подверженная влиянию левых партий, как и её самый первый состав. Тогда-то, в июне 1907 г. Столыпин, воспользовавшись надуманным предлогом, предоставил царю возможность роспуска Госдумы с одновременным изменением избирательного права в пользу партий, лояльных самодержавию, и в ущерб левым партиям всех мастей: в истории эти события получили название «третьеиюньского переворота».
Однако и после столь решительных мер премьеру Столыпину далеко не сразу удалось утихомирить революционные страсти. Из публикаций «Русского слова» от 2 сентября 1907 г. можно было узнать, например, что «в Лодзи при исключительных обстоятельствах убит на своей фабрике доктор химии Мечислав Зильберштейн. Убили его рабочие за отказ заплатить 15 000 рублей за время безработицы». В Митаве (Латвия), по сообщению того же «Русского слова» от 2 сентября 1907 г., накануне было «закончено следствие по делу о революции в Голдингенском уезде. Обвиняемых — 34. Глава движения Пунжнаергле во время революции организовал народную милицию в 30 000 гвардейцев»…
Не лучшим образом (для самодержавия) обстояли дела и в таких составляющих империи, как Грузия и Украина. В Тбилиси, например, «временно обязанные крестьяне князя Бектабекова Микелашвили, Надирашвили и Гамбарашвили, Горийского уезда, убившие 12 марта 1906 г. названного князя, приговорены кавказским военно-окружным судом к повешению», а в Киеве «именующий себя Кишняковым, обвинявшийся в покушении на разбой и убийство городового, военно-окружным судом приговорён к смертной казни». В то же самое время, по сообщению «Русского слова», на Суражской улице Белостока «неизвестные стреляли в проходивший патруль; ответными выстрелами патруля один ранен»; в Екатеринославе «на Выездной улице обнаружена квартира с бомбами и револьверами. Арестованы двое». На эти бомбы и револьверы, убийства и грабежи Столыпин отвечал новыми казнями, расстрелами и повешениями, и, казалось, что невозможно ни разорвать порочный круг преступлений, ни остановить жуткий «поезд» ответных репрессий…
В этих условиях революционерам, теснимым с одной стороны широкими полномочиями военно-полевых судов, работой полицейского аппарата, с другой — потерей политической поддержки парламента, ничего не оставалось, как прекратить сопротивление и либо вернуться к мирному существованию, либо отправиться в эмиграцию в расчёте на лучшие времена.
Особенно показательным в этом было положение Антонова-Овсеенко, которому в случае нового ареста после «третьеиюньского переворота» уже не приходилось рассчитывать на ходатайство своей фракции в парламенте, и он, как и многие другие, был вынужден отправиться в эмиграцию.
1.4. Между первой и второй: французская эмиграция русских социалистов
«Ну её к чёрту, эту Бельгию с её хвалёной свободой!.. Оказывается, что здесь не смей после десяти часов вечера в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать», — процитировал воспоминания об эмиграции большевика А. С. Шаповалова писатель Илья Эренбург в документальном романе «Люди, годы, жизнь»[17]. «Мне довелось повидать различные эмиграции — левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и растерянные; видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов, — писал также об этом предвоенном периоде жизни русских „политических“ Эренбург. — Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили будущим. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох: отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обострённая тоска по родине, потребность жить в тесном кругу соотечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри». Главное, что явилось для многих сюрпризом в той же «свободолюбивой» Франции, это готовность демократического будто бы государства к репрессиям против инакомыслия.
Выдающийся и несправедливо забытый поэт Марк Талов так описывал в стихах это эмигрантское ощущение:
Свобода, Равенство и Братство.
Девиз? Ну что же, он по мне!
Вот в чём, однако, святотатство:
Начертан он и на стене
Тюрьмы «Сантэ», где и поныне
Укоротят по плечи рост —
И не мигнёшь! — на гильотине.
Кровь смоют, снова чист помост…
Задолго до этого Герцен, описывая эмиграцию в Лондоне, говорил, что «француз не может примириться с „рабством“, по которому трактиры заперты в воскресенье. / …Иногда я ходил на доклады, их называли „рефератами“. Мы собирались в большом зале на авеню де Шуази; зал был похож на сарай; зимой его отапливали посетители. А. В. Луначарский рассказывал о скульпторе Родене. А. М. Коллонтай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка».
В эмиграции же, в Стокгольме, в апреле 1906 г, прошёл и IV (объединительный) съезд РСДРП[18]. На нём Ленин, воодушевлённый тем, как разворачивались события в России, уже приступил к обсуждению того, что нужно будет делать с землёй после победы городского и сельского пролетариата. В этом своём стремлении он исходил из нескольких, представлявшихся ему наиболее важными, посылов. Во-первых, необходимо было обеспечить переход революции буржуазной в социалистическую — об этом Ленин неоднократно говорил и писал ранее, и, кажется, уже предвкушал этот переход (во всяком случае активно к нему готовился). Во-вторых, когда (сослагательное наклонение «если» даже не возникало) социалистическая революция победит, нужно же будет что-то делать с землёй. В-третьих, Ленин продолжал развивать идею союза городского и сельского пролетариата — союза тем более противоестественного, что крестьянин, даже самый обездоленный, по сути своей — собственник, стремящийся так или иначе или к начальному обретению собственности — земли и орудий её обработки, или к увеличению уже имеющегося. В очевидности этого обстоятельства будет впоследствии убеждать своих товарищей по партии видный сподвижник Ленина Николай Бухарин (впрочем, тщетно). Городской же пролетариат, состоявший, кстати, из бывших крестьян и их потомков, которые, потеряв всё на селе, отправились от безысходности на заработки в город, изначально относился к фабрикам и заводам, как к чьей-то заведомо чужой собственности, ничем абсолютно сам не обладал и, собственно, поэтому-то и именовался пролетариатом. Но Ленин для удержания власти остро нуждался в таком союзнике, как сельский пролетариат, и поэтому изо всех сил продолжал развивать эту несбыточную изначально идею. Но чтобы эта мысль понравилась и самим крестьянам, нужно было провозгласить курс на национализацию земли. И неважно, что съезд проходил в Стокгольме и крестьяне могли никогда не узнать о такой заблаговременно проявленной заботе вождя большевиков об их благосостоянии: машина партийной пропаганды уже тогда набирала обороты, достаточные для того, чтобы гром политических дискуссий отдавался явственным эхом в российской глубинке.
А дискуссий на съезде было множество, причём вновь по, казалось бы, малозначащим вопросам формулировок. Все — и большевики, и меньшевики, и центристы — разделяли мнение, что землю у помещиков и церкви нужно было «отъять», но меньшевики настаивали, что в резолюции съезда необходимо использовать формулировку «отчуждение», а большевики требовали непременной «конфискации». И хотя ввиду подавляющего численного перевеса меньшевиков на съезде резолюции в целом принимались под их диктовку, в этом конкретном вопросе последнее слово осталось за большевиками: землю намечено было именно «конфисковать». И здесь вновь возникает главный вопрос, заключающийся, конечно же, не в том, какой синоним следует употреблять для реализации практики банального отъёма земли: что предполагалось делать с землей далее? Большевики, как показала история, вовсе не намеревались передать её крестьянам: по их мнению, в случае успеха социалистической революции землю нужно было национализировать, а это отнюдь не одно и то же.