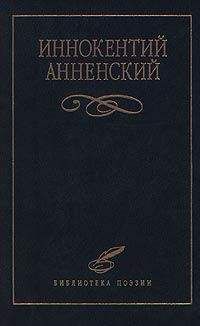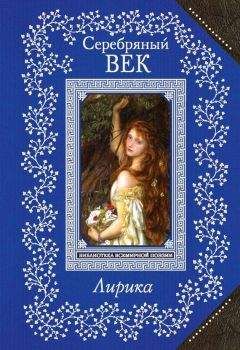Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
При знакомстве с Василием Андреичем бросается в глаза его самодовольство и равнодушие к ближним. Собираясь в дорогу он надел две шубы и валенки и с полным безразличием отнесся к тому, что его работник был одет в легкий кафтан и рваные сапоги. И беседует он с Никитой свысока, ему и в голову не приходит, что Никите неприятен разговор о сожителе его жены, бондаре. «Что ж, хозяйке-то… наказывал бондаря не поить? — заговорил… Василий Андреич… уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он» (29.9).
Так вот и жили они и, как это обычно бывает совсем не думали, что все может внезапно и кардинально измениться. А метель уже началась и ветер оказался «гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом» (29,9). С каждым часом метель усиливалась, с дороги сбились, стали кружить, дважды заехали в одну и ту же деревню, где их настойчиво уговаривали остаться переночевать, но Василий Андреич отказался, он боялся, что рощу могут купить раньше него.
И когда эти, поистине беспросветные и запредельно тягостные блуждания не оставляют никакой надежды. Никита предложил заночевать, здесь, в снегу на краю оврага. Причем, особую заботу в создавшихся обстоятельствах он проявляет не о себе и своем хозяине, а об их лошади.
«—А разве не выедем куда? — спросил Василий Андреич.
— Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь…
– А не замерзнем мы? — сказал Василий Андреич
– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита» (29, 19).
Тень тревоги уже поселилась в душе Василия Андреича, но гораздо сильнее волнует его совсем другое. «Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, — о том, сколько нажил и может еще нажить денег… <…> И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было…» (29, 20-21).
Из всего, что мы узнаем о Василии Андреиче, напрашивается вывод, что он никогда всерьез не задумывался над тем, что рано или поздно прервется не только его успешная деятельность, но и жизнь. И вот здесь, в санях, занесенных снегом, когда он «совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал», «точно что-то толкнуло и разбудило его», и «сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним» (29, 21-22). Он не догадывается, что именно «толкнуло» его, но какой-то след в душе его наметился: впервые, и совсем неожиданно для себя, он не только вспомнил о Никите, засыпанном снегом, но и пожалел его. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем». Все сильнее и отчетливее начинает заявлять о себе и мешать его привычным размышлениям какой-то неведомый ему страх. И вдруг, где-то до ужаса близко, раздалось завывание волка, и тут он понял: смерть рядом, теперь уже он «никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих делах… о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им…. <…> „Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом — да и марш, — вдруг пришло ему в голову. — Верхом лошадь не станет. Ему, — подумал он на Никиту, — все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава Богу, есть чем пожить…"» (29, 23).
Известно, что первое движение души в этом случае: куда-то уйти, убежать, чтобы спрятаться от смерти. И он снова стал блуждать во тьме и все повторял: «не может быть!» «Не во сне ли все это? — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо… это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один… ожидал неминуемой, скорой и бессмысленной смерти» (29, 25).
И только теперь, в минуту смертельного испуга, Василий Андреич, церковный староста, человек верующий, впервые вспомнил о святых защитниках человека «И он стал просить… Николая-Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же ясно, несомненно понял, что этот Лик, риза, свечи, священник, молебны – все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи» (29,25).
Но связь все-таки наметилась: ведь дорогу он сумел найти только к саням, в которых, «занесенный снегом», лежал Никита, но и — к своей душе, — ему, как никогда прежде, стало ясно, что все в жизни человека определяет любовь к ближнему, непрестанная забота о нем, что жизнь другого человека — твоя жизнь. С пониманием этого исчезло чувство одиночества и страха.
«…Замерзавший уже Никита приподнялся и сел… Он махал рукой и говорил что-то…
– Чего ты? — спросил Василий Андреич.
– Чую, смерть моя… прости; Христа ради…— сказал Никита плачущим голосом…
Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом… принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом…
– Хорошо, тепло, — откликнулось ему снизу.
– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы…
Так пролежал Василий Андреич час, и, другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носило впечатления метели… потом все это смешалось, одно вошло в другое… появились сновидения… Он лежит на постели… и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг…приходит Тот, Кого он ждал… Тот самый, Который кликнул его и велел ему лечь на Никиту… «Иду!» — кричит он радостно… Он хочет встать и не может Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается.. И он вспоминает, что Никита лежит под ним… и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он… «Жив Никита, жив и я», — с торжеством говорит он себе…
И опять слышит он зов Того, Кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что свободен и ничто уже больше не держит его» (29, 26-27).
Ко времени написания рассказа «Хозяин и работник» и сам Толстой и его герои из других его произведений проделали весьма существенную эволюцию в своем отношении к смерти, как к завершению жизни, ее отрицанию, и как к загадке, являющейся загадкой самой жизни. Известно, что начинал он с ужаса перед смертью, ее тайной. Этот ужас как нельзя лучше передают слова героя «Записок сумасшедшего»: «Чего я тоскую. Чего боюсь? — Меня, неслышно отвечает голос смерти. Я тут. — Мороз подрал меня по коже». А, спустя десятилетие, он запишет в дневнике: «Смерть теперь прямо представляется сменой: отставлением от прежней должности и приставлением к новой. Для прежней должности, кажется, что я весь вышел и больше не гожусь» (53, 44 ).
В подобных размышлениях Толстой перекликается с Шопенгауэром, которым он одно время был так увлечен, что даже поместил в своем кабинете его портрет. «Для счастия человека, — по мнению Шопенгауэра, — вовсе недостаточно, чтобы его переселили в «лучший мир», нет, для этого необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть… Этому требованию предварительно удовлетворяет смерть… Перейти в другой мир и переменить все свое существо — это, в действительности, одно и то же» [53].
Такая «коренная перемена» произошла в Василии Андреиче, он осознал, что, как и все другие люди, он только слуга, только исполнитель воли Хозяина. С этим связано отсутствие у него всякого страха перед смертью и какого-то сомнения по поводу предстоящей вечности, отсюда и чувство абсолютной свободы, о которой он и понятия не имел в своей земной жизни, отсюда и все то, что, в своей совокупности, как раз и породило его чувство «радостного умиления», которым отныне охвачено его существо, в корне обновившееся.
Как видим, Василий Андреич не на словах, а на деле, ценой своей жизни подтвердил свою любовь к ближнему. Что-то простилось ему, человеку еще недавно равнодушному, самовлюбленному, нисколько не обремененному ростом своей души, а в чем-то прощения он не нашел. Метель выявила в нем качества истинного христианина, бывшие у него подспудом, но она же и погубила его, быть может, за то, что проявились они у него слишком поздно, да и грехов у него накопилось более чем достаточно.
Метель же гораздо ближе познакомила нас и с Никитой. Он, оказывается, давно верил в то, что, кроме земных хозяев, которым он служил здесь, есть Главный Хозяин, Тот, что послал его в эту жизнь, и знал что, «умирая он останется во власти этого же Хозяина, а что Хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо» (29, 23-24).