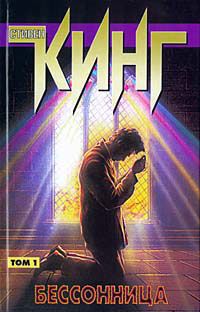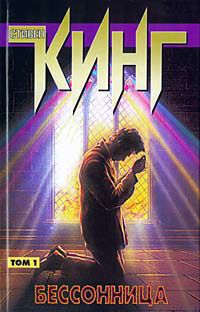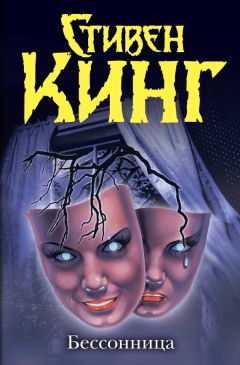Александр Крон - Бессонница
Успенский явился на свадьбу незваный. Свадебный пир происходил на квартире моего тестя, в огромной гостиной, увешанной картинами батального содержания. К приходу Паши было уже порядочно выпито и все-таки скучновато. Паша ворвался как смерч, с охапкой обожженных первым заморозком красных кленовых веток из институтского сада, такой же ясноглазый и моложавый, как до войны, разве что седины стало больше, но она ему шла. Ворвался и сразу овладел застольем, как умел он один, самовластно, но никого не обижая, ему покорились самые солидные, самые важные из гостей, он заставлял их дружно хохотать, а затем вытащил из-за стола, повел к стоявшему в гостиной трофейному "Блютнеру" и наскоро сколотил мужской хор. Пели полузабытые солдатские и революционные песни, причем громче и вернее всех пел он сам, его левая рука извлекала из загрубевших глоток нечто стройное и задушевное, а правая самозабвенно отбивала маршевый такт, лицо Паши становилось то грозным, то печальным, очень светлые глаза мечтательно щурились и вдруг вспыхивали жестоким весельем. Презрев слабые протесты моей тещи, он распорядился убрать стулья и придвинуть пиршественные столы к стене, усадил одну из Лидиных подруг за пианино и вдохновенно дирижировал кадрилью, а затем под дружные аплодисменты собравшихся протанцевал с тещей мазурку. Теща моя танцевала мазурку еще на губернских балах, но откуда бывший красногвардеец, чьи ноги чаще шагали по глине, чем по натертому паркету, мог научиться этой скользящей дворцовой грации, для меня до сих пор загадка.
Наконец наступили те предшествующие разъезду полчаса, когда усталые и отяжелевшие гости вновь возвращаются к столу, где уже засыпаны солью винные пятна и вместо остро пахнущих солений и копченостей расставлены никому не нужные жирные торты. Убедившись, что жена и теща разливают чай и на нас не смотрят, он схватил меня за локоть и оттер в полутемную переднюю.
— Не валяй дурака, — сказал он сердито. — Почему ты не приходишь? Тебя все помнят, любят и будут рады. И Бета тоже.
Конечно, он все знал. Умолчание было не в характере Беты. Знал, но не считал нужным объясняться. Меня это задело. Паша понял и засмеялся:
— Поговорить о прошлом мы всегда успеем. А вот подумать о будущем надо не теряя времени. Пора перестать играть в солдатики.
Вероятно, я поморщился. Паша опять засмеялся:
— Извини. Я хотел сказать: все хорошо в свое время. Пока шла война, твое поведение делало тебе честь. Но война кончилась. Не собираешься же ты до конца своих дней оставаться полковником? — Он посмотрел мне прямо в глаза и вдруг захохотал. — Что? Хочешь быть генералом?
Тут он как в воду глядел. Я уже был на генеральской должности, а к Новому году должно было подоспеть и звание.
— Зачем тебе это? — сказал Паша. — Для солидности? Нам с тобой солидность ни к чему. Солидные у меня замы. Послушай меня, Леша… — Впервые за вечер он назвал меня по имени, и меня это тронуло. — Плюй на все и береги лампочку.
— Какую лампочку? — спросил я, уже что-то понимая.
— Ту, что внутри нас. — Он показал на грудь. — Пока она горит, мы будем двигать науку, заводить друзей, нравиться женщинам… Погаснет — и никакие лампасы тебя не спасут. Короче — ты в любой момент можешь получить обратно свою лабораторию. Черт с тобой, можешь совмещать. Баба Варя тебя подстрахует, затем подыщем тебе крепкого помощника, а твое дело — резать и ставить проблемы. Приходи. Кстати, увидишь еще одну женщину, которая будет тебе рада. Олю Шелепову. Она теперь работает у меня.
Я обещал подумать. Паша вернулся в столовую, а когда я через минуту вошел вслед за ним, оказалось, что он исчез также внезапно, как и появился.
V. Средь шумного бала
В последних числах декабря того же сорок пятого года я получил письмо от Петра Петровича Полонского. В чрезвычайно лестных выражениях, от имени и по поручению коллектива он приглашал меня в Институт на новогодний бал.
Петр Петрович появился в нашем Институте, когда я был на фронте. До войны он заведовал кафедрой в каком-то периферийном вузе. Вуз этот эвакуировался на Урал. Жена Петра Петровича, в то время беременная, на Урал ехать не захотела и, будучи наделена от природы всесокрушающей энергией, добилась перевода в эшелон, увозивший наш Институт в областной среднеазиатский городок, сохранившийся в благодарной памяти эвакуантов под сокращенным названием "абад". В результате этих стремительных, но необдуманных действий семья в составе доктора биологических наук П.П.Полонского, его супруги Зои Романовны и двух дочерей, из коих одна, как любят выражаться наши ученые мужи, была еще в антенатальном периоде, оказалась на мели: в снятой за большие деньги семиметровой конуре, без работы и всяких средств к существованию. Кто-то надоумил Зою Романовну послать телеграмму Успенскому. Паша в то время подолгу обретался в Куйбышеве, куда перебралось большинство правительственных учреждений. Он рвался на фронт, а его не пускали. Петра Петровича Успенский знал разве что по фамилии, но отозвался немедленно: позвонил по ВЧ в обком с настоятельной просьбой оказать срочную материальную помощь известному ученому профессору Полонскому. Все остальные вопросы он обещал разрешить на месте по возвращении в "абад".
В ожидании приезда Успенского Петр Петрович развил в городе бурную общественную деятельность. Он выступал в местном лектории, и его стали узнавать на улицах. Вернувшись, Паша со свойственной ему быстротой соображения сразу смекнул, что от исследовательской работы Петр Петрович давно отстал, зато он прямо создан, чтоб замещать директора Института во время его частых и продолжительных отлучек. Решение было мудрое. Пока Институт жил бивачной жизнью и основная задача руководства состояла в том, чтоб сохранить до лучших времен ценное оборудование и научные кадры, Петр Петрович был вполне на месте. Неизменно и ровно любезный, он никому ни в чем не отказывал, а если притом не всегда выполнял свои обещания, то как-то так, что на него не обижались. Он ладил со всеми, а на местные власти производил неотразимое впечатление своей бородой аксакала, вальяжными манерами и тем высоко ценимым на Востоке талантом ко всякого рода церемониалу, которого всегда недоставало мне. В этом отношении мы полностью сходились с Успенским, разница была только в том, что Паша как человек государственный лучше меня понимал необходимость ритуала и по достоинству оценил эти качества Петра Петровича. За два года эвакуации Успенский не провел в "абаде" и шести месяцев и, возвращаясь, неизменно находил сотрудников более или менее сытыми, склоки — улаженными, отношения с инстанциями — в самом превосходном состоянии. И хотя уже тогда злые языки называли Петра Петровича шляпой, которую оставляют в кресле в знак того, что место занято, большинство моих коллег и сейчас относится к нему лучше, чем к дельному и работящему Алмазову. Кто-то сказал: ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Очень верно.
Письмо было более чем вежливое, и хотя в этот день нам с женой предстояло впервые отправиться в Кремль на встречу Нового года, мне остро захотелось хоть на час окунуться в милую моему сердцу атмосферу институтского праздника. Балами наши институтские вечера называются по традиции, отчасти потому, что происходят они не вечером, а сразу после работы, но еще больше потому, что торжественная часть у нас бывает краткой и необременительной, а основное время занимают живая газета, игры и танцы. Танцевали у нас в Институте все, и лучше всех сам Павел Дмитриевич Успенский, неизменно открывавший бал мазуркой в паре с кем-нибудь из юных лаборанток, и наши девчонки, для которых шимми и чарльстон были давно пройденным этапом, старательно разучивали па мазурки на случай, если их пригласит директор. Столь же традиционными были маленькие банкеты по лабораториям с мензурными стаканчиками вместо стопок и неизбежным красным винегретом в эмалированных ведрах. В каждой лаборатории были свои фирменные блюда и коронные номера, свои поэты и каламбуристы, свои милые обычаи и местного значения фольклор. Шло соревнование, и, скажу не хвастаясь, наша маленькая лаборатория блистала чаще других, она была самой молодой, самой дружной, самой веселой и изобретательной на развлечения, и даже представители старшего поколения, в том числе моя ближайшая помощница Варвара Владимировна Алеева, строгая и справедливая баба Варя, ни в чем не уступали молодежи. Чтоб руководить коллективом на отдыхе, необязательно обладать какими-то особыми талантами, важно не мешать тем, у кого они есть, и, бог свидетель, я не мешал никому.
Незадолго до описываемых событий мне было присвоено звание генерал-майора медицинской службы, и для своего первого визита в Институт я надел новенькую генеральскую форму. Каюсь, острой необходимости в этом не было, но человек суетен, а форма мне шла, она добавляла к моей мальчиковатой внешности какую-то недостающую краску. Жена тоже настаивала на форме, но, как я теперь понимаю, по совсем другим причинам: ей хотелось, чтобы мои бывшие друзья воочию убедились, что теперь у меня совсем другая жизнь и я им больше не принадлежу. Ехать со мной жена отказалась, она готовилась к кремлевской встрече, но отправляясь в парикмахерскую, самолично довезла меня до ворот Института. Это был акт высокой лояльности.