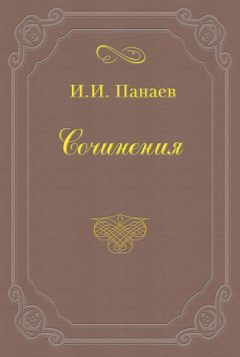Н Добролюбов - Луч света в темном царстве
Все подобные отношения дают вам чувствовать, что положение Диких, Кабановых и всех подобных им самодуров далеко уже не так спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена патриархальных нравов. Тогда, если верить сказаниям старых людей, Дикой мог держаться, в своей высокомерной прихотливости, не силою, а всеобщим согласием. Он дурил, не думая встретить противодействия, и не встречал его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, одним желанием - угодить ему; никто не представлял другой цели своего существования, кроме исполнения его прихотей. Чем больше сумасбродствовал какой-нибудь дармоед, чем наглее попирал он права человечества, тем довольнее были те, которые своим трудом кормили его и которых он делал жертвами своих фантазий. Благоговейные рассказы старых лакеев о том, как их вельможные бары травили мелких помещиков, надругались над чужими женами и невинными девушками, секли на конюшне присланных к ним чиновников и т.п., рассказы военных историков о величии какого-нибудь Наполеона, бесстрашно жертвовавшего сотнями тысяч людей для забавы своего гения, воспоминания галантных стариков о каком-нибудь Дон-Жуане[*] их времени, который "никому спуску не давал" и умел опозорить всякую девушку и перессорить всякое семейство, - все подобные рассказы доказывают, что еще и не очень далеко от нас это патриархальное время. Но, к великому огорчению самодурных дармоедов, - оно быстро от нас удаляется, и теперь положение Диких и Кабановых далеко не так приятно: они должны заботиться о том, чтобы укрепить и оградить себя, потому что отовсюду возникают требования, враждебные их произволу и грозящие им борьбою с пробуждающимся здравым смыслом огромного большинства человечества. Отсюда возникает постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуров: сознавая внутренно, что их не за что уважать, но не признаваясь в этом даже самим себе, они обнаруживают недостаток уверенности в себе мелочностью своих требований и постоянными, кстати и некстати, напоминаниями и внушениями о том, что их должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется в "Грозе", в сцене Кабановой с детьми, когда она в ответ на покорное замечание сына: "могу ли я, маменька, вас ослушаться", - возражает: "не очень-то нынче старших-то уважают!" - и затем начинает пилить сына и невестку, так что душу вытягивает у постороннего зрителя.
Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами
не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение
родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери
болезней от детей переносят.
Кабанов. Я, маменька...
Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей
гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, - как ты
думаешь?
Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные,
не должны с нас, дураков, и взыскивать.
Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты господи! (Матери). Да
смеем ли мы, маменька, подумать.
Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от
любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче
не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать
ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает... А сохрани
господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, - ну и пошел
разговор, что свекровь заела совсем.
Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?
Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж
кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила.
И после этого сознания старуха все-таки продолжает на целых двух страницах пилить сына. Она не имеет на это никаких резонов, но у ней сердце неспокойно: сердце у нее вещун, оно дает ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между ею и младшими членами семьи давно рушилась и теперь они только механически связаны с нею и рады были бы всякому случаю развязаться.
Мы очень долго останавливались на господствующих лицах "Грозы" потому, что, по нашему мнению, история, разыгравшаяся с Катериною, решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на ее долю между этими лицами, в том быте, который установился под их влиянием. "Гроза" есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, о его этюдах чисто комического характера). В "Грозе" есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это "что-то" и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.
Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в "Грозе", составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел сделать Островский. Ни одна из критик на "Грозу" не хотела или не умела представить надлежащей оценки этого характера; поэтому мы решаемся еще продлить нашу статью, чтобы с некоторой обстоятельностью изложить, как мы понимаем характер Катерины и почему создание его считаем так важным для нашей литературы.
Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесение их в жизнь, в деятельность. Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий, подставляемых Дикими, Кабановыми и т.п.; для преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое наконец прорывается в людях сквозь все преграды, поставленные Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась в том, как же должен образоваться и проявиться характер, требуемый у нас новым поворотом общественной жизни. Задачу эту пытались разрешать наши писатели, но всегда более или менее неудачно. Нам кажется, что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности. Таким образом и явился, например, Калинович[*], чуть не таскающий купца за бороду, чтоб тот пожертвовал десять тысяч на пользу общества, и истязающий в тюрьме старого князя, на любовнице которого женился, чтоб составить себе карьеру. Так явился и Штольц, отлично управляющий именьями и умеющий живо уничтожать фальшивые векселя при помощи благодетельного начальства. Явился Инсаров, бросающий немца в воду, не соглашающийся жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на любимой девушке!! Явилась и княжна Зинаида[*], нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке... Все это были претензии на сильные, цельные характеры. Но верх их представлял в прошлом году Ананий Яковлев[*], по поводу которого московский господин Аполлон Майков[*] напечатал такую удивительную статейку в "Санкт-Петербургских ведомостях", что я не постигаю, как Кузьма Прутков[*] до сих пор не составил из нее новой серии афоризмов*. Вам известно, может быть, что Ананий Яковлев, известясь о младенце, которого в его отсутствие прижила жена его с помещиком, воспаляется гневом и, весьма почтительно объясняясь с помещиками, грубит, однако же, бурмистру, колотит свою жену и наконец, разъярившись донельзя, хватает младенца об угол головой, после чего бежит в лес, но, проголодавшись, предает себя в руки правосудия. Лицо, очевидно, сильное, хотя более в физическом, нежели в нравственном и литературном смысле. Но не эта сила рвется наружу из тайников русской жизни и не таково должно быть ее проявление. Оттого-то мы вовсе не понимаем, каким образом можно "Горькую судьбину" возвышать над уровнем бесчисленного множества повестей, комедий и драм, обличающих крепостное право, тупость чиновничества и грубость русского мужика. Если вы даете ее нам как пьесу без особенных претензий, просто мелодраматический** случай, вроде жестоких произведений Сю[*], - то мы ничего не говорим и останемся даже довольны: все-таки это лучше, нежели, например, умильные представления г.Н.Львова и графа Соллогуба, поражающие вас полным искажением понятий о долге и чести. Но если вы претендуете на какое-то более высокое и общее значение этой пьесы, то мы решительно не видим никакой возможности согласиться с вами. Ананий Яковлев, взятый не как малодушное исключение, а как тип, представляется нам клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову[*]. Одно из двух: если Ананий точно сильная натура, как его и хочет представить автор, - тогда он гнев свой должен обратить прямо на причину своего несчастия либо совсем преодолеть себя, по соображению, что тут никто не виноват; такие развязки постоянно мы и видим в русской жизни, когда сильные характеры сталкиваются с враждебными обстоятельствами. Если же он просто малодушный и бестолковый озорник, как выходит по сущности дела, то нужно признаться, что положение, взятое для него в пьесе, вовсе нейдет к этому типу, да и развито совсем не так, чтобы ярко обозначить его существенные черты. Впрочем, - бог с ней, с этой пьесой: она уже забыта теперь, как забыты князь Луповицкий[*] и другие благонамеренные, но фальшивые произведения, имевшие претензию на представление характеристических народных типов. Мы остановились на минуту пред нею потому только, что многие принимали Анания за чисто русский тип. А нам, напротив, показалось, что в нем просто дается нам утрировка того, что у некоторых писателей называется "широтою русской натуры". Автор "Горькой судьбины", по нашему мнению, ненамеренно достигает результата, подобного тому, какой достигался комедиями, писанными по повелению Петра Великого против раскольников. Известно, что в тех комедиях раскольник всегда выставлялся каким-то диким и бессмысленным чудовищем, и таким образом комедия говорила: "смотрите, вот они каковы; можно ли доверяться их учению и соглашаться на их требования?" Так точно и "Горькая судьбина", рисуя нам Анания Яковлева, говорит: "вот каков русский человек, когда он почувствует немножко свое личное достоинство и, вследствие того, расходится!" И критики, признающие за "Горькой судьбиной" общее значение и видящие в Анании тип, делаются соучастниками этой клеветы, конечно не намеренной со стороны автора.