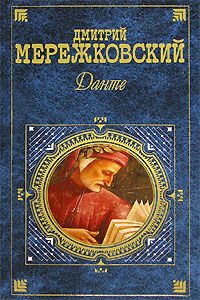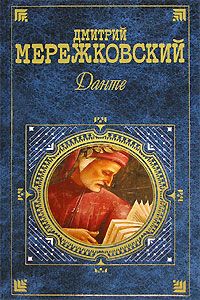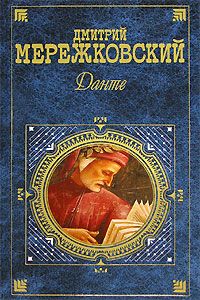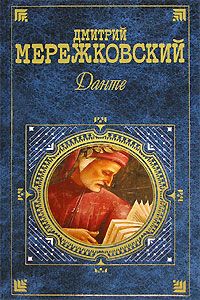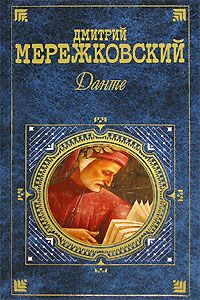Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского
Так молит Мережковский в одном из своих стихотворений. Таким именно бесстрастным, к земле сходящим с высоты, представил он Леонардо. В дневнике Джиовани Бельтрафио есть следующая запись со слов учителя: «Мастер, у которого руки узловатые, костлявые, охотно изображает людей с такими же узловатыми, костлявыми руками, и это повторяется для каждой части тела, ибо всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственным лицом и телом». Этот закон, по-видимому, еще правильнее для души: всякому человеку нравится душа, сходная с его собственной душой. Взял Мережковский свои собственные черты: свою исключительную способность к созерцанию, свое бесстрастие, свою рассудочность, сгустил их, усилил до крайних степеней, до сверхъестественных размеров, возвел их в апофеоз, в идеал — и получился образ Леонардо. Одинокая вечерняя звезда на далеком небе — вот символ, данный ему Мережковским. Он тоже одинокий, далекий, слишком рано спустившийся к земле с высоты. Мережковскому кажется, что в нем живой синтез, слияние в гармонии всех антитез. На самом же деле только смешение, механическое их соединение. Просто автор убил в нем живую человеческую душу, заморозив ее на той беспредельной высоте, где царит «великая божественная тишина», — превратил его в мертвую машину, проделывающую самые противоположные вещи, произносящую логически абсолютно непримиримые мысли — и думает, что это синтез.
Леонардо величаво спокоен. В сущности, ему не к чему стремиться: он — идеальное претворение высшей идеи Мережковского. Зато другие, как Джиовани, всегда мечутся, всегда — в стремлении. По указанию автора, они постоянно путешествуют из одной бездны в другую, от Христа к Антихристу, от Бога к Дьяволу, от крайнего отрицания личности к крайнему ее утверждению и, конечно, по начертанному плану, ad majorem gloriam главной идеи Мережковского.
Впрочем, в Леонардо все-таки имеются живые человеческие черты, но они появляются в конце произведения и именно тогда, когда он уже перестает быть символом. Мережковский опять как бы спохватился, понял, что ли, что его Леонардо не более как призрак, пустая аллегория, и он отступил от своей схемы и наделил его своей скорбью, своей неутолимой жаждой любви, людской близости, своим одиночеством и — здесь эта черта уже ярко сказывается — своим страхом перед концом, перед смертью. И как там, где Мережковский рисует неудачу возрождения, гибель драгоценной для него красоты, единственного смысла в его жизни, так и здесь он действительно освобождается порою от самого себя, от власти своих схем и созидает художественные страницы. Но это уже не Леонардо, а слабый, немощный, одинокий, страдающий человек, как все. Впрочем, Мережковский и тут не выдерживает долго. Уже носятся перед нами контуры последней части трилогии: «Петр и Алексей», уже постиг он свою новую истину, что «соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь, а правда в царстве Третьего Завета, во Втором Пришествии, предвещенном Иоанном, сыном Громовым». И как тут не соблазниться о Леонардо? Как не устроить встречу ему с кем-нибудь из русских, сблизить последнее русское возрождение, которое должно быть, с тем, которое было? И снова тускнеют чувства, замирает жизнь сердца, и длинно и вяло рассказывается о некоем русском иконописце Евтихии, очутившемся в русском посольстве при дворе французского короля, о его иконах, которые должны были поразить Леонардо своим сходством с его замыслами, о том, как Евтихий рисовал их, какими примитивными средствами пользовался и как, однако, проникал бессознательно в какие-то бездны.
В «Петре и Алексее» Мережковский еще ниже спустился с высот художественного творчества — сразу на несколько ступеней. Здесь нет даже и тех невольных светлых прорывов, которые были еще в предыдущих частях; тут все заранее размерено, рассчитано, одно к другому подогнано, точно он обо всем справлялся, подобно Евтихию, в каком-то «Подлиннике, единственно верном источнике изящного познания истинных образов». Петр — властный герой, грозный Митра-Дионис, противостоящий народу;
Алексей — кроток и милосерд, как Иисус Галилеянин, и весь в народе и с народом, который отождествляется с Телом Христовым, с Церковью. Трагедия между отцом и сыном есть трагедия полярности Плоти и Духа. Пока Плоть сильнее и Петр побеждает; но в грядущем, в царстве Иоанна сына Громова, Плоть и Дух сольются воедино, Плоть станет святой, духовной. Это уже предчувствует Алексей, к которому перед самой смертью является св. Иоанн в образе светлого старика. Об этом же было видение и Тихону, выходцу из народа, который, подобно Джиовани из «Воскресших богов», тоже всю жизнь свою терпит муки раздвоения, мечется, ищет абсолютной правды, колеблется между обеими безднами: в данном случае главным образом между наукой и религией, пристает к самым разнообразным сектам и толкам и нигде не находит успокоения. Так уже ясно проводится идея Третьего Завета, третьего и последнего откровения Св. Духа, которое должно объединить, слить воедино оба прежние откровения: Бога Отца и Бога Сына. В Петре — черты грозного Бога Саваофа; в Алексее — любовь и всепрощение Сына, и в этом его близость с русским народом-Богоносцем, который, кроме того, еще бессознательно исповедует религию Мережковского, религию конца.
В таком же духе, и с той же проповеднической целью и так же надуманно и размеренно написаны первые две части из второй трилогии — «Павел I», «Александр I» и «Декабристы» (последних еще нет в печати), которые исследуют борьбу этих же двух начал: правды земной и правды небесной в ее отношении к будущим судьбам России. Нет никакой надобности остановиться на них. Знакомые с писаниями Мережковского знают, что последние его художественные произведения гораздо хуже первых, что в них еще сильнее, ярче проявляются выше отмеченные нами коренные его дефекты.
Но исчерпывается ли на этом наша оценка? Имеем ли мы право произнести окончательный суровый приговор над его эпосом? Или сказать, вместе с большинством, еще суровее: Мережковский — не художник? Я уже не говорю о тех истинно вдохновенных страницах, где Мережковский рисует гибель Эллады, грустит о разрушенных храмах, поверженных статуях; или о тех, проникнутых невольно пробивающимся глубоким чувством ненависти, где он описывает нелепые по своей бессмысленности, жестокие по своим результатам вселенские соборы. Не говорю также и про те главы, которые посвящены закату жизни Леонардо, его томлениям перед столь пугавшим его концом — здесь, повторяю, Мережковский сказался истинным художником, сумевшим заразить нас остротой и болью своих переживаний.
Но если даже взять его первую трилогию в целом со всей ее геометрической планомерностью, тенденциозностью, надуманностью — нужно ли, смеем ли мы ее отвергнуть как произведение безусловно антихудожественное? И тут прежде всего приходит на ум такая мысль. Эпос — это область, где законнее всего стремление художника сделать «интимное всеобщим», где громоздкость композиции, широта картины, сложность плана требует ясности созерцания, требует напряженной работы именно холодной мысли, разума. Не действуют ли в нем, в эпосе, еще и другие законы эстетики, совсем не похожие на те, что в лирике? Не получаем ли мы там какие-то своеобразные эмоции, в чем-то и чем-то напоминающие правильность линии, прелесть симметричности в архитектуре? И в этом смысле, в самом деле, в каждом совершенном эпическом произведении, как, например, «Война и мир», имеется, безусловно, кое-что из эстетики геометрии. Мы, может быть, ясно не сознаем этого — тому мешают, пожалуй, глубина и яркость отдельных образов, богатство самых сложных, самых запутанных иррациональных человеческих переживаний: они-то и пленяют нас прелестью тайны, делающейся явной, властно приковывая к себе, к своей иррациональности, все наше внимание, — но смутно мы все же ее чувствуем, эту эстетику геометрии. Может быть, в этом и кроется одна из причин удивительного спокойствия, тишины, что ли, у Толстого и необычайной встревоженности у Достоевского: у него она — эта эстетика геометрии — безусловно отсутствует.
Так вот: когда читаешь трилогию Мережковского, эти мысли неустанно преследуют вас. Да, верно: часто останавливаешься на страницах его романов с возмущением: «Нет, неправда! Люди совсем иначе переживают вещи; какое-то мертвенное бесстрастие — стынешь от холода; сочинено, явная надуманность». Все это так. Но почему-то, вопреки всем этим вопиющим недостаткам, вы ловите себя на том, что в целом осталось впечатление какой-то значительности, своеобразной красоты, суровой строгости. Тут именно что-то напоминает красоту архитектуры, красоту правильных линий. Правда, эта красота слишком спокойная, бесстрастная — опять-таки умственная, рассудочная, что ли. Но все же кpасота, а не одна только красивость.
И еще спрашиваешь себя вот о чем: несомненно, Мережковский часто грубо нарушает самые элементарные требования правдоподобия; его бесплотные символы нередко перестают даже быть символами, превращаются в простые аллегории; неужели он сам этого не замечает? неужели не видит, не чувствует всю ложь, всю неестественность многих своих сцен, ну хотя бы таких, как нападение толпы на дом Леонардо и состояние последнего при этом: чернь неистово вопит, от ударов топора дрожат стены — вот сейчас ворвется она и все уничтожит, а он себе сидит спокойно и бесстрастно заносит в свой дневник слова: «О, дивная справедливость твоя, первый Двигатель! Так все благо, все от тебя…?» А ведь они нередки; таких сцен надуманных, сочиненных ad hoc, для того чтобы сыграть роль надписи: «се есть лев, а не собака», у Мережковского, увы, слишком много. В чужом глазу и сучок увидит, а в своем и бревна не заметит. И вот является мысль, не сознательно ли Мережковский пренебрегает правдоподобием? Не хочет ли он взывать к воображению читателя: пусть тот сам заполнит содержанием незатейливые намеки, добавит то, что умышленно упущено автором (было же одно время такое течение, в особенности в области театра). Мережковский, конечно, мог пойти здесь по линии наименьшего сопротивления, повинуясь в большинстве случаев силе своей рациональности: благо некогда казалось, что эта линия не только не противоречит заветам символизма, но непосредственно вытекает из него, намеренно оправдывается им. Это, само собой разумеется, Мережковского не оправдывает; скорее даже наоборот: усугубляет его вину перед собой и перед читателем, но зато еще больше должно предостеречь нас от окончательного сурового приговора над ним как над художником: в некоторых самых грубых своих погрешностях он мог быть, благодаря своеобразному отражению известных литературных течений, ниже своего дарования.