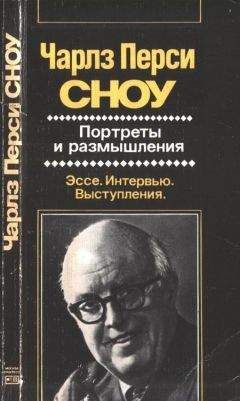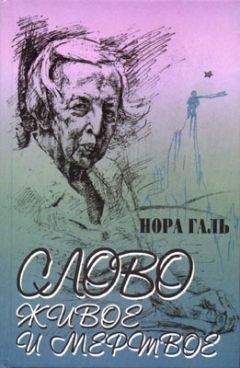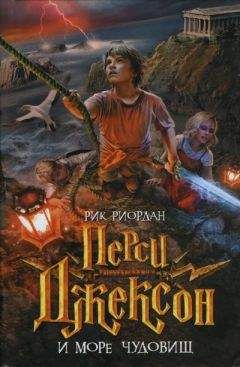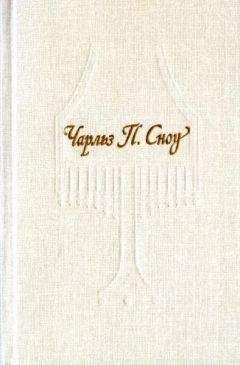Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое
Но если это так, то почему? И разве же «машина» сама по себе тому виной? Разве, скажем, в годы Великой Отечественной войны новейшая техника могла восприниматься как нечто стоявшее между человеком, воином-патриотом, и всенародно осознанной целью – волей к победе? Очеловеченные «стальные птицы» и «катюши» осознавались именно как могучее средство воплощения идеалов и цели народной нравственности. Но победила-то в конечном счете все-таки не сама по себе техника…
Думается, что в таком нравственно-человеческом смысле «проблема машины» как одного из средств воплощения в жизнь общенародных идеалов и целей в любое, и прежде всего в мирное, время в конце концов не может не стать предметом серьезного художественного исследования. А д ля этого писатель должен обладать прежде всего формами и средствами идейного, духовного формирования в человеке ясно осознанных общенародных, общегосударственных целей и идеалов, позволяющих человеку в любой ситуации – в отношении ли с другим человеком, с живой ли природой или с наиновейшей техникой – пребывать во все времена человеком духовно могучим и мудрым. В решении этой задачи (хотя, естественно, далеко и не только этой) заключаются и современная миссия истинно большого писателя, направленность устремлений, общественно-историческая значимость подлинно художественной литературы как духовной энергии народа.
1980
О прозе Валентина Распутина последних лет
Литература во все времена отражала и определяла общее духовно-нравственное состояние народа, общества, эпохи. Настоящая литература, конечно. Валентин же Распутин безусловно – один из тех крупнейших писателей, чье творчество сегодня отражает и определяет современное состояние нашей отечественной литературы.
Еще лет десять назад чуть не каждый свежий номер центральных, а порою и областных журналов радовал читателей крепкой, а то и прямо незаурядной прозой. Ныне не то. Настоящая проза – явление не столь уж частое, тем более радующее новыми именами, открытиями, обобщениями художественной мысли.
Правда, если обратиться к опыту русской литературы, то можно бы вспомнить и нечто отрезвляющее. Так, в одной из статей «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский поделился с читателями таким, по его словам, «забавным наблюдением»: «Все наши критики (а я слежу за литературой, – писал он, – чуть не сорок лет)… чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе… то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: «в наше время, когда литература в таком упадке», «в наше время, когда литература в таком застое», «в наше литературное безвременье», «странствуя в пустынях русской словесности» и т. д. и т. и. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков». Если при этом учесть, что Достоевский не назвал еще ни Лескова, ни Льва Толстого, ни, естественно, себя, то мысль о пустынях представится уже не столько даже забавной, сколько прямо кощунственной, хотя исходила она, как правило, отнюдь не от врагов или недоброжелателей нашей отечественной словесности, а от нашего собственного неумения да и нежелания видеть и оценивать свое объективно, что, конечно, тут же использовалось недоброжелателями, делавшими далеко идущие выводы о творческой недееспособности русского народа в целом.
И хотя это действительно факт, и факт неоспоримый: писателей масштаба и уровня Л. Толстого и Достоевского ни в современной отечественной, ни в мировой литературе нет, а об Островских давно уже что-то и слыхом, как говорится, не слыхано, а потому и нет особых поводов для излишне восторженных оценок нынешнего состояния литературы, тем не менее нет серьезных причин и предаваться унынию. Нет, потому что вчера еще мы были современниками Шолохова, творца величайшего художественного создания XX века – эпопеи «Тихий Дон». И сегодня среди нас живет немало серьезных писателей, в числе которых, говоря словами Достоевского, «человек десять, по крайней мере преталантливых», появившихся почти одновременно и в столь короткий срок – и не в сорок даже, а в каких-нибудь двадцать лет. Да, повторю, нет среди них ни Толстых, ни Достоевских– по глубине и масштабности творческого мышления, но – и это чрезвычайно важно есть уже писатели масштаба и уровня Валентина Распутина. Есть, и это уже очевидно, таланты классической породы, то есть породы того «самобытного нравственного отношения» (Л. Толстой) к самому художественному слову как к средству самосознания всего нашего общества, как слову самой нашей эпохи, увиденной «глазами всего народа» (Гоголь), которая рождала могучие всходы в недавнем прошлом. А коли так, то и есть, стало быть, надежные основания веры в могучее будущее нашей литературы, будущее, вызревающее уже в недрах сегодняшнего ее состояния и, как знать, может быть, именно в том самом сегодняшнем временном затишье, которое мы иной раз готовы принять за кризисное состояние и которое может оказаться в действительности лишь той минутой сосредоточенного молчания, которое мы соблюдаем каждый раз, присев перед дальней и тем более нелегкой дорогой. О том, на мой взгляд, свидетельствуют и некоторые процессы творчества Валентина Распутина, которые вполне можно проследить в его произведениях последних лет.
Широкую известность Валентину Распутину принесла его повесть «Деньги для Марии» (1967), хотя и до того он уже выпустил сборник рассказов, и рассказов крепких. Появившаяся через год-другой повесть «Последний срок» утвердила имя писателя в ряду наиболее значимых, пришедших со своим словом. Последовавшие затем «Живи и помни» (1974) и особенно «Прощание с Матерой» (1976) – не оставили, кажется, уже ни у кого сомнений в том, что перед нами подлинно большое, я бы сказал – могучее явление современной отечественной и мировой литературы.
– Вот именно, – нет-нет да и услышишь сегодня из уст порою даже и искренних почитателей его таланта, – в эти-то десять лет и вместился и сказался весь Распутин, во всяком случае, в главном, а потом – вот уж почти восемь лет, по существу, ничего нового, равноценного созданному прежде… Так что явное притормаживание творческого движения писателя, как говорится, налицо. А ведь Распутин – один из ведущих наших писателей, один из тех, по которому мы вправе судить и об общем состоянии дел в литературе…
– Так-то оно так, по видимости, да только и не совсем так, а скорее даже и вовсе не так…
В свое время между «Последним поклоном» и последовавшей затем повестью «Живи и помни» тоже наблюдалось затишье, растянувшееся тогда без малого на шесть лет – тоже срок не малый. И тогда, помнится, высказывались авторитетные мнения: все, что мог, дескать, сказал… Правда, и в тот период временного затишья Распутин написал несколько рассказов. Тогда же вышло его повествование «Вверх и вниз по течению. Очерк одной поездки», но именно этот-то очерк, кажется, еще более усугубил впечатление пробуксовки (в том числе, должен признаться, – и у автора этих заметок о творчестве Валентина Распутина) и даже чуть ли не творческого кризиса, если уж не вовсе «падения таланта». Но уже повесть «Живи и помни», устыдив скептиков, поставила все на свои места, а повествование «Вверх и вниз по течению» просто забылось, как забывается нечто обыденное под напором свежих, незаурядных впечатлений.
Справедливости ради скажу, что и сегодня остаюсь при мысли, что по концентрированности художественной мысли «Вверх и вниз по течению» не может все-таки соперничать с четырьмя названными повестями. Но что ж из того? Повествование это интересно и само по себе, вне сравнений с другими произведениями писателя. Интересно и значимо точными, емкими картинами жизни, остротою писательских наблюдений, обнаженностью почти исповедальных размышлений автора, кажется, даже и не пытающегося здесь спрятаться для формы за спину своего героя. И это повествование несет в себе общую мироотношенческую характерность Распутина, более всего роднящую его, на мой взгляд, с художественным миром Достоевского и Тютчева, как никто другой, пожалуй, остро чувствующих такие мгновения, которые «стоят всей жизни» («мгновения, когда полнится душа», как сказано у Распутина), когда вся жизнь, история, кажется, даже и вся Вселенная готовы раскрыться нам в самом своем сокровенном, в законах своего вечного созидающего начала.
Наконец, в повествовании «Вверх и вниз по течению» впервые у Распутина, во всяком случае, с такою собранностью и определенностью появляется центральный, как мне представляется, образ болевого нервного узла всего его творчества – образ смещенного центра (обозначим его пока так, за невозможностью или неумением найти более точное определение). Приехав после пятилетнего отсутствия в родные края, герой (назовем его так, чтобы не совсем уж не отличить его от автора повествования) при виде резко переменившихся, памятных с детства просторов не то что не узнает свою малую родину, но и прямо ощущает ее уже как бы другой и даже чужой землей, которая лишь «в редкие сокровенные минуты» напоминала ему «ту, на которой он рос… Лишившись чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино», родные места словно «разбрелись кто куда…».