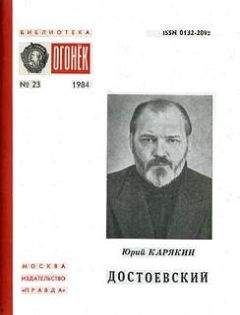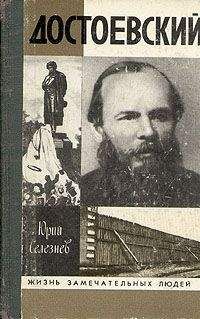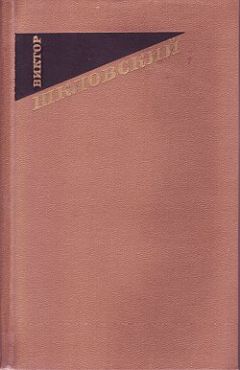Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
Не аргумент! Достоевскому столь же были присущи как абсолютная убежденность в правоте своей художественности, так и беспрерывные колебания насчет того, художествен ли он. Недовольство Достоевского самим собой нельзя принимать за аргумент — против его художественности. Микеланджело еще более был недоволен самим собой… Вообще к концу жизни все хотел разломать и сжечь, все им созданное, да, к сожалению, еще и преуспел в этом в отличие от Достоевского.
Кстати заметим, что Достоевский смолоду, с самого начала и до самого конца — и это крайне важно для понимания художника, — был устремлен на самые-самые высокие ориентиры. В том числе — на Данте. «Божественная комедия» — как ориентир… Мечтал о создании «Божественной комедии» для XIX века.[136]
Неоднородность произведений Достоевского (сочетание глубокой символики и фельетонного стиля, предельная, «натуралистическая» документальность и образность, уголовная хроника и философский трактат, цитаты из газет и Библии и т. д.), вызывающая порой обвинения в эклектичности, является на деле видимой, формальной. Все эти «неоднородные» элементы художник заставляет как бы гореть в одном пламени. И когда он их поджигает, вдруг обнаруживается их глубочайшее внутреннее родство, сплавленность. (Любой факт для Достоевского может стать горючим материалом.)
Итак, его эстетика — одолеть некрасивость красотой… Некрасивость, которую изображал Достоевский, была уже не той некрасивостью, которую знали-изображали художники до него. И вот эта-то некрасивость — по «предмету» — отбила слух, глаз на ту красоту, какой Достоевский и одолевал эту некрасивость. Такая красота смиренной, усмиренной, простой победы над такой агрессивной, наглой, хамской, предельной, запредельной некрасивостью…
Господи! Как жалко, что я не умею это все выразить во всей полноте этих мыслей и чувств.
А ведь много необъяснимого и в некоторых действиях самих «отрицателей» Достоевского. Но почему, почему, уходя в свой последний путь, Толстой взял с собой самый не любимый им роман Достоевского «Братья Карамазовы»?[137]
«Нехудожественность» превратилась в новую, небывалую художественность, которую не понял Тургенев, которую не понимал Толстой, разглядывая его микроскопически, и которую понял Толстой, объяв его как целое, макроскопически, вдруг разом понял.
Что есть художественность?
Художественность — это:
1) чем глубже в себя копнешь, тем общее выходит;
2) а чем общее, тем, значит, единственнее — по тому же Толстому.
Так вот, Достоевский и выразил эти две вещи — накануне, во время Апокалипсиса.
«Отделывать» (текст) в момент всеобщей гибели и есть не художественность, а антихудожественность. (Алесь Адамович подходил к этому со своей «сверхлитературой», несправедливо осмеянный; вспомнить письмо ему, Алесю, Распутина. Потрясение Распутина, прочитавшего его «Карателей».)
Итак, Достоевский подготавливает нас (и сам себя подготавливает) к другому (какому?) отношению к:
1) жизни; 2) смерти; 3) встрече с большим Х.
Достоевский и Микеланджело
(Достоевский и «человек с содранной кожей»)
Все, может быть, началось с того, что меня перестали удовлетворять иллюстрации к произведениям Достоевского (за очень немногим исключением — В.А. Фаворский, А.Н. Корсакова, Э. Неизвестный и некоторые другие), а просмотрел я их сотни.
Разумеется, я давно знал мысли, высказывания Достоевского о картинах Рафаэля, Гольбейна, Тициана.
Но в конце 60-х, разглядывая «Капричос» Гойи, обжегшись ими, я вдруг подумал: насколько это ближе по духу Достоевскому, чем сближение Достоевского с Рембрандтом, о чем я вычитал у Л. Гроссмана. И чем дальше, тем больше я убеждался в этом, прочитав множество книг о Гойе, проглядев едва ли не все репродукции его произведений, тем более побывав (и не раз) в Музее Прадо.
В начале 70-х, готовя телевизионную передачу «Моцарт и Сальери», искал «изобразительный ряд». Разумеется, в первую очередь взял три гениальных рисунка Фаворского. А что еще? И тут Эрнст Неизвестный подсказал — «Страшный суд» Микеланджело. И вот, бесконечно разглядывая тот немецкий альбом Микеланджело, который я взял у Неизвестного, рассматривая ту «раскадровку», которую мы сделали для передачи, я вдруг опять почувствовал необычайное родство душ, духа этих художников — Микеланджело и Достоевского.
Примерно в это же время, чуть позже, вычитал в 86-м томе «Литературного наследства» чье-то письмо, где говорилось об этом родстве.[138] Это еще более стимулировало такое сравнение. Тогда же и пришла эта мысль: если олитературить героев Микеланджело, то они во многом (по крайней мере для меня) окажутся героями Достоевского, а если «оскульптурить», «оживописить» героев Достоевского, то они вдруг тоже во многом окажутся героями Микеланджело.
А тут как раз вернулся из Италии Ю.П. Любимов и, радостный, рассказывает, что ему дали карт-бланш — сделать на итальянском телевидении все, что он захочет: «Подумай!» Я ему тут же и предложил этот сюжет: Микеланджело и Достоевский. Не знаю почему (то ли потому, что я не был еще достаточно убедителен, то ли потому, что он был настроен на другую «волну»), но из этого дела ничего не вышло. Но все это — запало. Запало, но отложилось надолго — до конца 80-х, когда мне несколько раз посчастливилось побывать в Испании (Музей Прадо) и в Италии (прежде всего «Сикстинская капелла», Сан-Пьетро).
Еще помню, что тогда же, когда я прочитал то чье-то письмо и расспрашивал многих искусствоведов, есть ли такая скульптура у Микеланджело — человек с содранной кожей? Никто не вспомнил. Сам искал — не нашел.
Но вот сегодня, буквально сегодня, 29 января 1997 года, снова разыскал это письмо, на которое наткнулся 20 лет назад. Вот что получилось.
Письмо (от 17 июля 1879 г., оригинал написан по-французски, место отправки — Форестье) принадлежит некоему, ныне совершенно забытому, Ф.М. Толстому. Адресовано — О.Ф. Миллеру. Из него следует, что еще прежде Ф.М. Толстой довольно резко (вероятно, тоже в письме) высказывался против Достоевского и что О.Ф. Миллер еще резче ему отвечал — в письме от 27 июня 1879 г. (оба этих письма, к сожалению, нам неизвестны).
«…Ваше письмо от 27 июня — это не просто “расписка в получении”, а красноречивая защитительная речь и в то же время почти обвинительный акт, которым вы мне даете знать, что я ложно понял и вынес легкомысленный приговор личности и творчеству вашего литературного идола… <…> Теперь — последнее слово. Совершенно очевидно, что „человек с содранной кожей“ Достоевского в духе Микеланджело радует наш взгляд. Вы хотели бы повесить этот анатомический шедевр, эту окровавленную плоть, над своим письменным столом, чтобы досыта наслаждаться ее созерцанием. Я же восхищаюсь им как добросовестным и даже ученым, с точки зрения анатомии, трудом, но мне хотелось бы, чтобы сей труд находился подальше от моих глаз. Вот и вся разница между нашей манерой писать о великом таланте Достоевского».
Неизвестно, последовал ли ответ О.Ф. Миллера.
Но вот письмо ему Ф.М. Толстого (оригинал опять по-французски от 14 августа 1879 года). Убежден, что читатель не посетует на слишком долгую цитату — настолько сильной, искренней и красивой является мысль автора.
«Если у вас хватит терпения разобрать мои каракули — вы изрядно посмеетесь! “Валаамская ослица заговорила”, — скажете вы, быть может, читая мою исповедь. Дело в том, что ваше письмо от 27 июня явилось для моей старой башки совершеннейшей новостью — скажу больше: откровением…
Ваша глубокая уверенность в справедливости своей оценки поколебала мои убеждения, и я принялся внимательнейшим образом перечитывать роман — предмет вашего культа. Итак, я не только должен торжественно покаяться, но и возопить из сокровенных глубин своей души: mea culpa, mea maxima culpa.[139] Последний роман Достоевского действительно, как вы это говорите, — идеальное произведение, и все наши беллетристы-психологи — со Львом Толстым во главе — не больше чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем. Перебирая в уме чудовищные бессмыслицы, которые я позволил себе высказать в своем первом письме, я краснею от стыда, и только одну фразу я считаю возможным оставить и теперь — это параллель между «Человеком с содранной кожей» Микеланджело и некоторыми местами в творениях Достоевского, но с той, однако, разницей, что произведение Микеланджело — это анатомический этюд, а произведение Достоевского — это этюд психологический, или, вернее, вивисекция, производимая над живым человеком. Те, кто присутствует при этом эксперименте in anima villi,[140] видят, как трепещут мускулы, течет ручьем кровь, и — что еще ужасней — они видят себя отраженными в глазах, “этом зеркале души”, и в мыслях человека, вскрытие которого производит автор. <…>