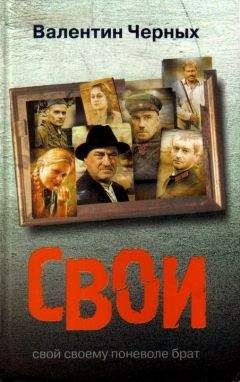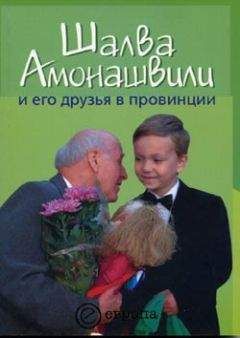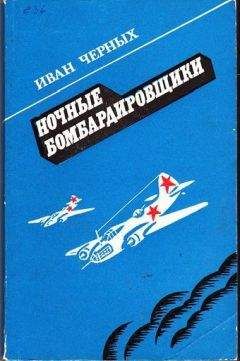Борис Черных - Старые колодцы
Морозы уже заковали церковный пруд, и грязь застыла на дорогах. Василий Васильевич сидел дома, валенки подшивал.
Я спросил:
– А где же Тоня дотемна гуляет? На дворе хоть глаз выколи.
– А Тоня со мной не живет,– сказал Кудасов.– Тоня с матерью живет, неподалеку.
Я прикусил язык, попрощался и ушел. Приезжему не сразу открывается потаенное.
Поссорившись с женой, Василий Васильевич оставил ей дом и хозяйство, а сам женился на монашке. Чем взрослее становится Тоня, тем все труднее видеть ей отца (а Кудасову скоро шестьдесят стукнет) рядом с монашкой. На одной улице живут, через пять домов, а смотреть в глаза друг другу не могут.
Вскоре довелось познакомиться и с Тониной мамой. Позвала меня в гости сама Тоня. Странно как-то позвала, будто чего не договаривая. Но настойчиво. Я не посмел отказаться.
Сели мы за стол, чай пили. Тоня молчала.
– Помогаешь ли ты маме? – спросил я по-учительски строго и дежурно.
– На ферме я не нуждаюсь в ее помощи. А домашнее хозяйство вместе ведем. Игорь баловнем растет, а Тоня девочка серьезная. В школе, правда, обижаются за ее характер, но я-то знаю, она участливая. Когда суд приехал в Кочетовку и все говорили, что меня посадят, одна Тоня сказала: «Ты мама, не виновата, поэтому будь спокойна». Спокойной я не сумела остаться, но суд не признал меня виновной в том, что темные люди, взломав замок, ограбили сельмаг... Я была продавцом. Ездила к родне на Волгу, вернулась, а магазин настежь. Вот вы новый человек в деревне, скажите мне: до каких пор будут меня звать воровкой?
Тут Тоня опустила плечи. Игорь молча смотрел на меня.
– Пошла я учетчиком на ферму. А там доярки в молоко воду льют, за надои борются. Я говорю: «Негоже, девчатки вы мои милые». А они мне: «Молчи, воровка»... Как жить дальше? Потом стали следить за мной. Я в Токаревку, они за мной. Я в Тамбов, они за мной...
– Кто они? – спросил я.
– А это уж вам лучше знать,– пряменько, но поверх меня и далеко глянула Александра Васильевна.
– Мама,– попросила Тоня,– не надо, мама.
– Надо, дочка!.. В поезде следят... Я везу сувенир, а это не сувенир, а ключ от магазина...
Александра Васильевна встала и принесла ключ всамделишный, но из бронзы, в стеклянной шкатулке. Вязью выведено слово «Волгоград».
– Они сувенир хотят отобрать у меня...
Я молчал, постигая в отчаянии всю трагичность положения этой девочки и этого малыша, живущих с полубезумной, хотя и доброй мамой.
Скоро Тониной маме стало плохо. Пришла в школу, к директору, говорила бессвязные речи, поймала за рукав меня в коридоре, сказала шепотом:
– Сувенир-то закопала... В палисаднике землю топором разняла, ямку вырыла и в ватку укутала ключик, никто не увидит, не выведает... А они что решили: раз магазин сгорел, то я подожгла его. А если на коровнике пожар?
Среди вздора вдруг выклик исстрадавшейся души:
– Заберут меня, Тоне с Игорем елку на Новый год сделаете? Поставите елочку, а?
Александру Васильевну отвезли в Тамбов, в больницу, Тоня осталась одна. Мы уговаривали ее перейти в интернат при школе, она наотрез отказалась:
– Сама проживу!
– Ну, хоть Игоря давай поселим в интернате.
– Не дам. Пусть дома живет. Картошка и капуста у нас есть, а из муки я оладьи умею печь.
На миру, без войны, родилась в Кочетовке новая семья сирот, при живых родителях. Одно утешение – жизнь для Тони, как и для Сереги Уварова, явилась всеми сторонами сразу, и они выдюжат, как выдюжил в свое время Саша Смолинский, Юркин отец. Но утешение это горькое.
Не вытерпев, я зашел как-то к Тоне в гости. Она стирала. Игорь кастрюлей носил воду из колодца. В избе было чисто. Топилась печь.
Через день привезли зеленые елки к колхозному клубу. Я вел урок в пятом. Ребята повскакали с парт, загалдели. Я велел всем одеться – пальтишки висят прямо в классе,– повел их к грузовику, на котором стояла колючая роща.
Серега Уваров хозяйственно осмотрел елки и приценился:
– Рубля три, не меньше, стоят.
Перед самым моим отъездом женился Коляша, в жены взял молоденькую учетчицу. На свадьбе гуляло полдеревни. Мать Юрки Смолинского выводила дробь возле правления колхоза: Теща на свадьбу Пирог пекла...
И женщины подхватывали:
Пирог пекла,
Стекла натолкла.
Угощала:
Ах, милый зятек,
Проглоти чуток,
Не жевамши!..
Тут же крутились дети, бедокурили, насмешничали.
Серега Уваров сидел в кошевке, был слегка выпивши, на брата и невесту его смотрел преданно, как собачонка. По всему видно было: и гордился событием, и жалел, что кончились Коляшины веселые денечки. Может, и в Ахматову лощину больше не гонять им деревенских коров, не жечь костры на болоте, не спать, раскинув руки, в тесном шалашике под металлический звон комаров...
Тамбовская область
Мальчик-ковбой из Техаса
Попытка воспоминания
– Мальчик, тебя как звать?
– Чарли.
– А сколько тебе лет?
– Много. Четырнадцать.
– А где ты живешь?
– В Техасе.
– Кто твои родители?
– Ковбои.
– У вас есть лошади?
– Наивный вопрос.
– И у тебя тоже своя лошадь?
– Да,– сказал он с гордостью,– ее зовут Ланни.
– Ну, хорошо. А вот этого дяденьку ты знаешь?
– Это полковник Смит.
Полковник Смит колыхнулся огромным телом, его лицо радостно опало: «Какой славный парнишка. Никто не знает, а он знает, что я полковник».
– Ладно, Чарли. А это кто?– я показал на замшелого мужичка с отекшими веками. Мужичок крепко спал после двойной инъекции.
– Что вы пристали, кто да кто. Это фермер Брэдли. У него стадо в тридцать семь коров и сто пятьдесят акров земли. Мы соседи.
– У тебя есть друзья?
– Еще бы. Мы все дети ковбоев и сами ковбои.
Тут ввалилась компания подростков в подтянутых шароварах на резинке, в широкополых соломенных шляпах. На шее у каждого повязан цветной платок.
– Знакомьтесь,– жестом показал Чарли,– это Джимми по кличке Крокодил (мальчики рассмеялись). А это Бешеный Стэнли.
– Почему бешеный?
– Потому что только бешеный мог укусить быка. Да, а этот слоненок по имени Кинг. Вы не смотрите, что он малой. Он самый сильный. У вас в России таким был Никита Кожемяка, удавивший половца[13]. Кинг, подними полковника!
– Полковника не трогайте, ему плохо,– сказал я.
Полковник взъярился:
– Затвердили, «полковнику плохо». Иди, Кинг, подними меня. Не бойся, я не сахарный, не рассыплюсь.
Мальчик-крепыш подошел к кровати полковника и легко приподнял ее. В полковнике было не меньше ста килограммов, да железная кровать тянула килограммов на пятнадцать. Сила Кинга произвела впечатление.
– Сколько же тебе лет, силач?
– Скоро пятнадцать.
– Ого, почти возраст пятнадцатилетнего капитана!
– Вы о сыне Гранта? Бездельник в матросской куртке!
– Бездельник? Он плыл через океаны в поисках отца.
– Все равно бездельник.
– А вы не бездельники? Дурака валяете.
– Дяденька, с ковбоями не шутят,– молвил Чарли.– Вы схлопочете по шее.
– Ладно, ладно, Чарли, теперь скажи, а кто, по-твоему, я? В очечках, с мундштуком в желтых зубах?
Чарли снисходительно посмотрел на меня и отвечал:
– Клерк.
Я расхохотался, ибо ответ был стопроцентно точен. Писатель-клерк, кто же еще.
Тут Джимми выглянул в коридор и воскликнул:
– Хок!– компания сорвалась и убежала, а по коридору поползли динозавры в белых халатах. Динозавры шипели:
– Опять! Где они взяли шляпы?! И кто им разрешил шлындать по чужим палатам?..
Динозавры ворвались к нам и грозно вопросили меня:
– Потворствуете безобразию?
– Потворствую. Но в чем безобразие? Кинг приподнял полковника на двадцать сантиметров от пола. Силушку некуда девать. В чем же безобразие?
– Как? Пацан поднял лежачего больного!
– Я не больной, черт побери!– взревел полковник.
– Успокойтесь, Гаенко. Нам лучше знать ваше состояние.
– Состояние,– прохрипел Гаенко.– Вы меня довели…
– Не довели, но доведем,– рявкнул старший из динозавров, и они удалились.
Теперь надо сказать,что действие сей крохотной пьесы развернулось в психоневрологическом диспансере города И-ска, время свершения пьесы 1978 год. А мальчики – Чарли, Джимми, Стэнли и Кинг – все из Г-го предместья, некогда основанного уральскими казаками, к 1978 году вполне обустроенного, с широкими улицами, покрытыми асфальтом, с палисадами. А средняя школа в Г-во та община, которая поторопилась отречься от мальчиков. Разумеется, я не мог не полюбопытствовать у докторов, почему школа отреклась. Мне не должны были отказать. В этом отделении я сохранял особое положение. Меня не трогали, не обследовали, не дергали по пустякам. Не навязывали медицинские препараты, хотя робкие попытки делались: «Б.И., надо успокаивающее недельку попринимать. Пустячок, неделю»,– однако я и без того оставался спокоен.. Пласт жизни, тяжелой, смурной, в трудах и испытаниях, иногда изнурительных, отошел, и мне казалось, я не уклонился исполнить положенное мне Провидением. Родил сына и дочь, сходил на баррикады. Под баррикадами я имею в виду вот что: начитавшись Герцена, Плеханова и само собой Владимира Ильича (от корки до корки все пятьдесят томов), в 1965 году написал письмо съезду комсомола, назвав его «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Я предложил махонькую поправку в переустройство общества. Разумеется, я был свирепо бит, лишился партбилета, но достоинства не потерял, напротив, чувствовал себя в нравственной силе. Я шел по жизни, осознавая, что Голгофа впереди. И я понял, у меня есть перо. Сам Борис Николаевич Полевой вызвал меня к себе после очерка «Весенние костры»,– очерк о военном топографе Владимире Питухине и о городе Свободном (тогдашняя цензура запретила называть город, Свободный остался в очерке под грифом С.),– усадил напротив и сказал, пыхнув сигаретой: «У тебя перо, бъющее сердце навылет! Я велел строки не трогать в “Кострах”. Работай, и все состоится». Я и работал втихомолку. В последние годы я успел написать «Старые колодцы», или исследование «История одного колхоза», где не сфальшивил и не слукавил, спрятал подальше, ибо в стране не было смельчака-редактора, который бы решился печатать «Колодцы». Почему я и был спокоен.