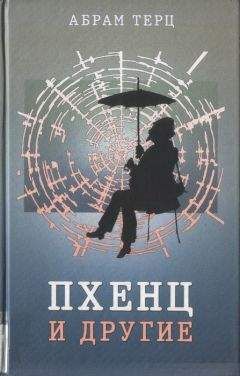Абрам Вулис - Литературные зеркала
Литература — беспрерывные парадоксы восприятия. Думал ли я когда-нибудь, что в «Робинзоне Крузо» мне послышится вдруг эхо «Метаморфоз»?
Герой, как и Нарцисс, один на один с собой. Вокруг — ни души. И день за днем, ночь за ночью длится рассказ — то ли мемуары, то ли документальный репортаж от первого лица, то ли внутренний монолог, то ли исповедь. Между прочим, исповедь происходит на фоне идиллических декораций с прозрачными речушками, пресноводными источниками и т. п., каждый из которых, строго говоря, вправе претендовать на собственную нимфу. Я уже признался: меня поразило, что в рассказе, изобилующем самооценками, нет ни одного зеркала и ни одного отражения — хотя бы в тех же речушках. И вдруг я понял: Робинзон как литературный горой пребывает в полемике с Нарциссом. Он боится своего отражения, памятуя — сознательно или бессознательно, — что нельзя искусственными приемами прерывать статус одиночества, даже когда он непереносимо тягостный. Священны табу такого рода, ибо уходят корнями в физиологию и психологию. Преступив запретительный порог, их нарушитель рискует поплатиться рассудком, впасть в безумие. И несчастье Нарцисса, если перевести происшедшее с языка поэзии на прозаически-бытовое наречие, в конечном счете может быть сведено к этому грустному медицинскому диагнозу.
Робинзон стоит обеими ногами на нашей грешной — а в его обстоятельствах абсолютно безгрешной — земле. Трезвый рационалист, он чурается рефлексии, особенно же в таких крайних ее формах, как раздвоение личности. Но зеркало — это ведь первая фаза раздвоения, опасная тем, что подкрадывается исподволь, под прикрытием сугубо физического смысла, на вид безобидного, как шелест листвы на ветру. Робинзон с его обостренным чувством опасности обходится без зеркала и его эвфемических разновидностей. По-моему, даже лужи осторожно огибает футов за сто (впрочем, любители кино утверждают, что на экране он смотрится в лужи).
На необитаемом острове Робинзона были найдены многие общезначимые закономерности — вспомним, как часто ученые и философы обращались к ситуациям робинзонады (кстати сказать, их робинзонады в контексте прошлого и позапрошлого века — аналитическое зеркало социальных проблем).
Добавим к ним еще одну, открываемую нами в повседневной практике поныне.
«…Со мной однажды был прелюбопытный случай… Когда я много лет тому назад поправлялся после тяжелой болезни, мой товарищ, доктор, посоветовал делать одно йоговское упражнение: лечь на спину и расслабить все мышцы… Так вот, в тот день я расслаблялся, расслаблялся, упражнение шло удачно, и вдруг почувствовал, как вышел из своего тела каким-то вторым, неведомым и бестелесным, но в то же время вполне конкретным „я“, и пошел по кабинету, в котором, лежа на тахте, делал упражнение. И это мое второе „я“ четко видело лежащее на тахте мое обычное тело. Это было явно, но странно. Я испугался, скорей стал шевелить руками и ногами. Второе „я“ исчезло, как бы вернулось в меня, и я стал тем единственным самим собой, каким обычно являюсь»[8].
Строки из мемуарных записок В. Розова включены сюда не в качестве некоего «железного» аргумента. Это просто первая мне попавшаяся современная репродукция по мотивам «самочувствие Робинзона в одиночестве».
Есть между положением Нарцисса и положением Робинзона еще одно различие. Считая одиночество Нарцисса карой, расплатой, мы не вправе мерить той же мерой Робинзона. Робинзон злодеяний не совершал. Ему не за что отбывать приговор, и никакой приговор на нем не висит. Так что он выведен из той симметрии, которая управляет судьбой Нарцисса (преступление наказание).
Сходство между ситуацией Нарцисса и последующими явлениями мировой литературы особенно ярко прослеживается в романтизме. Фигура демонического героя, зачарованного собственным представлением о самом себе, еще долго будет будоражить фантазию разных авторов, пока вовсе не утратит визуальную оболочку у Уэллса. Невидимка попросту упразднит для себя необходимость смотреться в зеркало, поскольку научится жить без внешности.
Попытка облечь психологический анализ в материальные формы, придать ему зримый характер, чтобы терзания личности можно было увидеть, ощутить, пощупать, как если бы действие развертывалось на сценической площадке, приобретает окончательную определенность у Стивенсона в истории Хайда и Джекила. Не столь уж важно, что зеркало появляется там всего на миг, в любом случае очевидно: суть сюжета так или иначе извлечена из коллизии, которую себе на беду открыл Нарцисс.
И еще одно замечание в связи с Нарциссом. От его имени производится «нарциссизм», делающий упор на самовлюбленность героя. Эту концепцию хочется оспорить: Нарцисс не был самовлюблен, он был обречен. Что же касается конкретной жизни термина, применяемого к эстетствующим патологическим персонажам, выходцам из маркиза де Сада или Захер-Мазоха, она оскорбительна для первоисточника, она не отражает, а, напротив, искажает его исходные черты.
Нарцисс на холсте
Теперь я расстанусь с Нарциссом литературным, чтобы перейти к Нарциссу живописному. В данной связи важны Два момента. Первый — теоретические взаимоотношения между зеркалом и портретом. Второй, уже вполне конкретный: образ Нарцисса в понимании художников.
Проще всего сказать что-нибудь тривиальное, вроде того, что портрет это и есть застывшее зеркало (или, вернее, зеркальное отражение). Но это будет как раз та простота, которая сопряжена с риском променять богатства явления на обманчивую хлесткость формулировки, на медь афоризмов, лишенных панорамной глубины аналитического парадокса. Когда мы говорим: «Архитектура — это застывшая музыка», за вызывающей фразой развертывается череда смыслов, за далью — даль. А когда мы останавливаем жизнь по принципу школьной игры в «Замри — и отомри!», получается примитив. Потому что «Замри!» в ситуации с портретом отнюдь не является частным случаем «Отомри!». Портрет по-своему содержательней зеркала, так же как и зеркало по-своему содержательней портрета.
Остановленное зеркальное отражение — подобие фотографии. Это сама жизнь, воспроизведенная, точнее, повторенная с определенными затратами на «трение», на технические издержки, потерявшая аромат подлинности. Это жизнь, ставшая вдруг безжизненной, потому что именно движение делает ее жизнью. Прежде всего, конечно, внутреннее, духовное, но и механическое тоже. Зеркальное отражение как бы равно самому себе (а не своему объекту).
Портрет, а говоря более общо, картина — это претензия на жизнь, эквивалент жизни, который представляет ее при помощи взятых у натуры, но пересозданных в новом материале деталей — и фантазии художника. Вымысел умножает смыслы, преображает и преобразует значения, устремляется к абстракциям, а иногда — к эмпиризму, чрезмерно все конкретизирующему.
Прибегнем к лаконичному языку аналогий: зеркало — это документалистика, а картина, портрет, живопись — это художественная проза. Зеркало — репортаж. Портрет — роман. Но зато зеркало, ставшее предметом живописи, зеркало в картине, зеркало в портрете — это сложный образ, пользующийся всей палитрой всех искусств, всех жанров — и документальных, и художественных. Еще более сложный образ — зеркало, переведенное из зрительного ряда — в умозрительный, из реальности или из живописи — в литературу.
В мировой «нарциссиане» выделяются, по-моему, два полотна — и, соответственно, два автора: Караваджо и Дали. Караваджо видит своего героя в достаточно традиционном повороте: юноша склонился над водой, что называется, лицом к публике, анфас, и встречается со своим отражением тоже анфас, лицом к лицу. На лице: любопытство, восторг, мятущаяся искательность — и мука.
Есть в таком решении темы нечто лобовое — и это чувство укрепляется позой героя, словно бы отводящего нападки судьбы странным движением одновременно и мятежно-человеческим, и бодливо-инстинктивным. Это — от верности литературному оригиналу. Но иллюстративный буквализм картины снимается нежностью, душевной интимностью авторского отношения к герою. Художник любит своего Нарцисса, его пронзительную в своей естественности красоту.
Уникальна колористическая гамма картины. То, чему живописцы Ренессанса придали бы звучание розового тициановского хрестоматийного глянца, выполнено здесь в условно-голубых тонах, с каким-то фарфоровым подтекстом, правдиво — если к сказочной реальности применимо понятие «правда»! воссоздающим атмосферу мига, мифа, мира. Этот мир, с одной стороны, объемлет вселенную, а с другой — едва ли превосходит масштабами деревню, где все друг другу родичи — за вычетом одного-двух вернувшихся командировочных, — эти за давностью лет забыли о своих корнях, но еще вспомнят, вспомнят…
Непонятно, как, да и почему голубой цвет с оттенками темной глазури столь мощно передает настроение синтеза: камерность — и всесветность. Но у этого цвета фантастическая способность инсценировать мифологическую тайну.