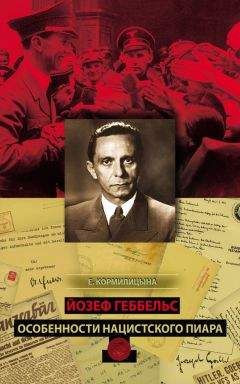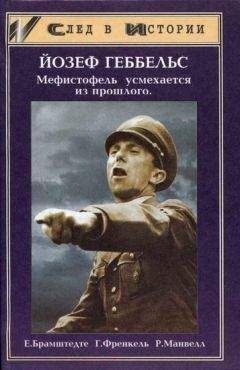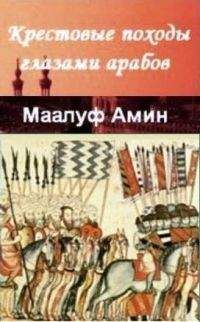Е. Кормилицына - ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС. ОСОБЕННОСТИ НАЦИСТСКОГО ПИАРА
Пришедший на смену Гуттереру Вернер Науманн сумел стать образцом буквально во всем. Фантастическая преданность делу, доходившая до фанатизма, аккуратность, профессионализм — все это не осталось незамеченным ни Гитлером, ни Геббельсом. Больше не было нужды подыскивать достойного статс–секретаря, он был найден.
В отделении третьем по счету, не таком опасном и неудобном для карьеры, как остальные, поскольку оно занималось туризмом, все было более статично. Его возглавлял бессменный статс–секретарь Эссер[90].
Структура геббельсовского министерства не являлась чем‑то застывшем и неизменным. Вполне естественно, что происходили новые назначения. Министерство постоянно расширялось. Появлялись новые отделения, перестраивались старые. Количество отделений в 1942 году совпадало с тем, что по памяти перечислил Фриче. Далее последовали некоторые пертурбации: 21.12.1943 в ведение министерства перешла дополнительно Имперская инспекция гражданской противовоздушной обороны; 21.09.1944 отделения театра, музыки, изобразительных искусств были объединены в одно отделение культуры. Последовал еще целый ряд изменений.
По всей территории рейха располагался целый ряд ведомств, которые, имея отношение к министерству, тоже перестраивались и расширялись. В соответствии с заранее утвержденным планом в июле 1933 года было создано 13 земельных инстанций — Landesstellen и 18 инстанций имперской пропаганды — Reichpropagandastellen.
Собственно, вот она — структура вновь созданного министерства. Механизм собран. Ну и как же он будет работать?
УПОРЯДОЧЕННЫЙ ХАОС ИЛИ ХАОТИЧНЫЙ ПОРЯДОК?
Без организации, то есть без принуждения,
а значит, без подавления личности
ничего не получится.
А. Гитлер
Аппарат получился весьма громоздким и необыкновенно показательным для Третьего рейха. Дело в том, что вся система власти в государстве строилась на управляемом фюрером принципе борьбы компетенций, или скорее — «хаосе компетенций». С одной стороны, прошло слишком мало времени с того момента, когда НСДАП была оппозиционной партией, не включенной в государственную систему, поэтому партийные структуры привыкли ощущать себя противопоставленными структурам государственным. С другой стороны, не очень‑то их торопили и подталкивали к слиянию. Фюрера вполне устраивал принцип «разделяй и властвуй» в отношениях с партийными функционерами и государственными чиновниками.
Лишь 9 сентября 1937 года вышло постановление, на основании которого была сделана попытка как‑то систематизировать работу многочисленных инстанций, находящихся в разных землях Германии и связанных с пропагандой. Они стали именоваться RPA — Имперские отделения пропаганды[91]. Тем самым подчеркивалось их непосредственное отношение к государственной системе пропаганды, т. е. — к министерству пропаганды. Однако сколько‑нибудь заметного результата данная попытка не имела. Все равно оказывалось, что руководителям отделений было гораздо ближе тянуться до местных гауляйтеров, нежели до Берлина. Таким образом, партийные структуры на местах оказывались намного действеннее, чем государственные.
Постоянное пересечение компетенций имело место и в самом министерстве. Конфликтные ситуации то и дело возникали на самом высоком уровне. Наглядным примером тому могли служить сложные взаимоотношения Геббельса с шефом имперской прессы Отто Дитрихом. Взаимоотношения, в которых достаточно сложно разобраться, где заканчивается профессиональное соперничество и начинается личная неприязнь. По крайней мере, в своих дневниках Геббельс достаточно часто позволяет себе очень резкие высказывания даже не столько о профессиональных, сколько о личностных качествах Дитриха:
«Мое выступление в Шпортпаласте вызвало блестящие отклики в прессе. Это не дает покоя доктору Дитриху… Мягкотелый субъект, врожденная посредственность. Но я все же избавлюсь от него»[92]. Конфликтная ситуация постепенно усиливалась вследствие того, что из‑за системы дублирования функций, принятой в Третьем рейхе, эти двое все время «сталкивались лбами»:
«Он (Дитрих) наделен посредственными способностями, ничтожество с гипертрофированным честолюбием. Теперь мне, наверное, придется, хотя это для меня и не просто, обратиться к фюреру. Так как компетенции… должны быть разграничены. Нынешняя ситуация постепенно изматывает нервы»[93].
Даже в последние дни войны, когда делить, казалось, было нечего, Геббельс продолжал свои попытки перекраивания сфер влияния, сопровождая их соответствующими комментариями в дневнике:
«Разумеется, я не могу утаить от фюрера то, что доктор Дитрих создает для сегодняшней пропаганды точно такие же трудности, как и в свое время для пропаганды ужасов большевизма. Я привожу фюреру несколько примеров, которые вызывают у него крайнее раздражение и гнев. Он прямо на ходу решает немедленно сместить доктора Дитриха с его поста… Это будет для меня большим облегчением. Доктор Дитрих — явный трус, он не справляется с задачами, вызванными нынешним кризисом. В подобные моменты нужны только сильные личности, прежде всего такие, которые слепо выполняют все, что им поручено. А доктор Дитрих к такой категории не относится. В своей работе я извожу на него столько сил, сколько фюрер изводит на своих генералов»[94].
В конечном итоге Геббельс добьется своего — отправит Дитриха в отпуск на неопределенный срок, Действие это не будет иметь в свете сложившейся обстановки ровным счетом никакого значения, однако принесет министру огромное удовлетворение.
Все это произойдет «под занавес», а первоначально сменивший Функа на посту статс–секретаря министерства Дитрих возглавлял три сектора, получив весьма объемный фронт работ. В его ведение попали подотделы немецкой прессы, иностранной и журнальной. О секторах немецкой и иностранной прессы можно было сказать, что они выполняли функции своеобразных фильтров, через которые проходило все, что печаталось газетами, а также публикации собственно министерства.
О том, как работали эти фильтры, сохранились интересные воспоминания представителя Си–би–эс в Берлине Уильяма Ширера. Этот человек был одним из тех, кто имел негативный опыт общения с представителями соответствующих секторов. «Вина» этого американского журналиста перед руководством Третьего рейха заключалась в следующем: позволил себе написать правду о том, что режим торопливо скрывает следы притеснения евреев в Гармише, где в 1936 году вот–вот должны были состояться зимние Олимпийские игры. В его корреспонденциях, в частности, упоминался тот факт, что нацисты торопливо убирают отовсюду таблички: «Евреи нежелательны». Ширер ничуть не сомневался, что подобные надписи вернутся сразу же после Олимпийских игр. В ответ немецкие газеты разразились оскорбительными публикациями и обвинениями в попытке сорвать игры. Сначала Ширер терпел: он был не новым в журналистике и в политике человеком и знал правила игры, но вскоре и его терпению пришел конец.
«С каждой новой газетой, которую курьер приносил днем в офис, я все больше заводился. Большинство позвонивших мне друзей советовали не обращать внимания и говорили, что если я полезу в драку, то меня вышлют. Но в статьях было столько преувеличений и клеветы, что я уже не мог себя контролировать. Я позвонил в офис Баде[95] и потребовал встречи с ним. Его не было на месте. Я продолжал звонить. Наконец секретарь сказал, что его нет и он едва ли придет. Около девяти вечера я уже не мог себя сдерживать. Я отправился в министерство пропаганды, прошмыгнул мимо охраны и ворвался в офис Баде. Как я и предполагал, он был там и сидел за своим столом. Я без приглашения сел напротив и, пока он не пришел в себя от удивления, потребовал извинения и признания ошибки в германской прессе и по радио. Он начал орать на меня. Я заорал в ответ, хотя от волнения не помню, что говорил, и речь, вероятно, была бессвязной. Наш крик, видимо, встревожил пару лакеев, потому что они открыли дверь и заглянули в кабинет. Баде приказал им закрыть дверь, и мы снова пошли друг на друга. Он стал колотить по столу. Я в ответ. Дверь поспешно открылась, и вошел один из лакеев, якобы предложить шефу сигареты. Я закурил свою. Еще дважды на наш стук заходил лакей, один раз опять с сигаретами, другой — с графином воды. Но я начинал понимать, что ничего не добьюсь, что никто, и меньше всего Баде, не обладает такой властью или просто порядочностью, чтобы внести даже самое маленькое исправление в механизм нацистской пропаганды, который уже запущен, какую бы великую ложь он ни символизировал. В конце концов он успокоился, стал даже слащавым. Заявил, что они решили не высылать меня, как планировали вначале»[96]…