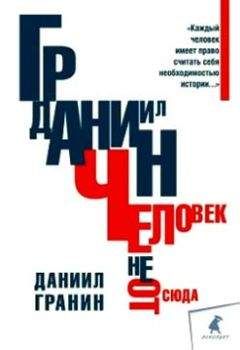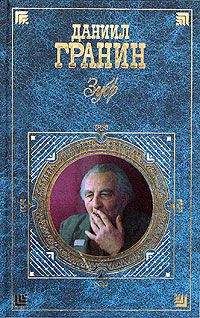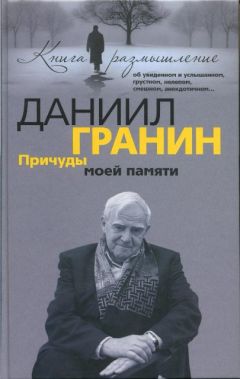Даниил Гранин - Милосердие
Она считала, что учитель не имеет права избегать этих интимных тем, но не знала, как отвечать на них, с какой степенью откровенности.
И тут я понял, что величайшая трудность учительского труда в том и состоит, что кроме любви к своему делу должно быть еще и искусство, где, увы, одна любовь беспомощна.
Мне вспоминается наша учительница по химии. Наверное, она была добросовестным преподавателем. Химию она знала. Но, странное дело, от ее уроков мы химию терпеть не могли. Предмет этот казался скучнейшим, и характерно, что никто из нас в химики не пошел, а неприязнь к химии переломить я в себе не мог и в институте, где читали этот курс отличнейшие преподаватели. Не берусь установить теперь, в чем была ошибка нашей Анны Михайловны, а хочу лишь показать, какие долгие последствия имеют подобные ошибки.
Убедился я и в том, что хороший учитель почти всегда создает и дружный хороший класс. Над созданием нашего класса работали в той или иной степени все наши лучшие учителя. Каждый из них творил наше классное содружество. Очевидно, понимая, насколько здоровый нравственный климат внутри класса помогает преподавателю. И за это, разумеется, может, самое большое спасибо учителям. Потому что школьные друзья — дорогое богатство каждого из нас. Школьная наша дружба уцелела и сохранилась десятилетиями. Не потому, что класс наш отличался каким-то особым составом, ничуть, скорее, оттого, что нашлись учителя, которые сумели создать в классе атмосферу дружбы, сумели создать коллектив. И та же Ксения Евгеньевна, и преподаватель математики, и наша учительница литературы. Каждый из них тянул класс как бы в свою сторону — в литературу, в физику, — и эта «поляризация», как ни странно, сплачивала класс.
Кроме знаний учителя, именно учителя могут одарить ребенка дружбой, друзьями.
С грустью я видел, как у дочери моей класс не сложился и каждый в классе был сам по себе. Учились добросовестно, а вот радости от школы не было, и друзей школьных лет не осталось, вместе с выпуском все кончилось, все разлетелись, и класс и школа навсегда забылись.
Спустя десятилетия, вспоминая об учителях моей школы, вижу, как многим хорошим я обязан им. Вспоминаются не знания, не предметы, а то человеческое, что вкладывали в нас. Литература, думается, много могла бы сделать, чтобы поднять престиж профессии учителя.
Я уверен, что можно сделать так, и это будет, что в учителя пойдут самые одаренные, самые лучшие ребята, что заслужить диплом учителя будет нелегко, что званию этому, а главное, работе этой будут завидовать как самой важной, почетной, уважаемой.
Золотые рога
Подъем длится третий час. Дорогу пересекают реки. Мостов здесь нет. Дорога ныряет в зеленую ревущую воду и выходит на том берегу. Грязная, топкая. Лошади, осторожно ступая по скользким камням, входят в реку. Останавливаются, боязливо отфыркивая пену, пьют. Пьют они мало, но долго, выгадывая время.
Мы тоже устали. Мы выехали из Усть-Коксы затемно, а сейчас уже припекает. Мы поднимаемся в горы, но гор не видно, они закрыты лесом. И все равно жарко. Мой спутник — директор совхоза Пальцын расспрашивает меня о литературных новостях. Делает он это из вежливости, и пока я отвечаю, он думает о строительстве нового маральника. Последний месяц он только об этом и думает. Наконец, разговор, к нашему удовольствию, вянет.
Мы едем на мараловодческую ферму совхоза, или, как ее называют, маральник. Я пробую представить себе, как он выглядит. Это интересное занятие — представлять себе вещи, которые никогда не видел, и потом сравнивать.
О живом марале у меня смутные детские воспоминания по зоосаду. Что-то похожее на оленя. Маралов разводят ради пантов. Панты — молодые рога. Из них изготовляют ценнейшие лекарства. Панты ценятся чрезвычайно высоко. Их экспортируют. Еще в Горно-Алтайске секретарь обкома говорил мне о маралах как о главном богатстве края. Мараловодческих совхозов немного, но они быстро растут, у них большое будущее. Когда речь заходила о маралах, у секретаря обкома появлялись неожиданные среди его скупых деловых фраз поэтические образы и метафоры…
Лошади медленно вытягивают ноги из густой грязи. Вчера мы пробовали пробиться к маральнику на мотоцикле. Проехали полпути и выдохлись. Каждые сто метров нужно было вытаскивать на руках тяжелую машину из грязи. Повернули обратно. Сегодня трясемся на лошадях — конца и края не видно. Ни одного встречного. Лес, горы, глухие, безлюдные места.
Пальцын застегивает воротник кителя. Деревья редеют. Показывается широкий уступ горы, заставленный домиками. Где же маральник? Пальцын показывает на высокую гору в зеленом карауле лесов. Мы проезжаем через поселок, здесь живут мараловоды, кормачи, рабочие маральника. Обычные рубленные из лиственницы избы, огородики, клуб, магазинчик, синий почтовый ящик — все, как внизу, на равнинах. Обыкновенный рабочий поселок. Чересчур обыкновенный. Я чувствую обиду и разочарование. Однако эта обыкновенность здесь, далеко в горах, настолько неожиданна, что начинает казаться необыкновенной. Чувство это усиливается, когда Пальцын знакомит меня со старшим мараловодом Иваном Еремеевичем Килиным. Средних лет, в кепке, в пиджаке, в сапогах, его ничем не отличить от жителя Горно-Алтайска или Новосибирска.
Килин — парторг. У него накопилось к Пальцыну множество дел. Он ведет нас в магазинчик. Пальцын осматривает полки, записывает, каких товаров не хватает. Килин заводит разговор о штатном расписании; ему нужно полставки для медсестры, и он упорно наседает на директора. Идут сложные маневры, которые кончаются уклончивым: «Ладно, еще поговорим».
— Может, позавтракаете? — предлагает Килин.
Я пожимаю плечами. Мне уже все равно. Как в плохой книге, до сути никак не добраться. И Килину и Пальцыну невдомек, что увидеть марала для приезжего, может быть, куда важнее штатного расписания. Но я помалкиваю. Если молчать, ни во что не вмешиваться, не расспрашивать, то постепенно на тебя перестают обращать внимание, забывают, что ты писатель.
На горе живут маралы. Кусты, поляны, лес, горные ключи — настоящий заповедник, целая страна, обозначенная едва заметной коричневой границей изгороди: высокой, чтобы марал не перепрыгнул, прочной, сложенной из толстых слег, чтобы не повалил. Изгородь, странная, вьется прямоугольными зубцами. Тяжелые слеги кладут вперехлест, без гвоздей, без обвязок; получается прочно, а главное — надежно. Наши обычные заборы с вкопанными столбами здесь не годятся, достаточно где-нибудь завалиться столбу, и могут произойти неприятности — уйдут маралы, либо волки проберутся. В сущности, эта изгородь, опоясывающая гору на десятки километров, и есть основное сооружение летника — летнего содержания маралов. Внутри этой летней квартиры существуют еще добавочные перегородки — сложная система загонов. Она позволяет разделять самцов, самок, молодняк.
Мы идем, открывая ворота из одного загона в другой. Высокая трава хрустит под ногами. Огромные лиственницы стоят редко, смыкая высоко наверху тяжелые кроны. Лес чистый, как парк, и торжественный, как колоннада храма. Такой лес бывает только здесь, на Алтае.
Пальцын останавливает меня. Маралы. Они метрах в ста. Я не сразу различаю их на фоне красноватых стволов. Проходит немного секунд, пока глаза привыкают. Маралы застыли, повернув к нам головы. Это самцы. Ветвистые рога их серебристо поблескивают. Даже отсюда, издали, чувствуется тяжесть этих огромных рогов, образующих целый лес. Маралов около полусотни. Они стоят так близко друг к другу, как позволяют им рога, и солнечные пятна лежат на их бурых боках.
— Король-олень. Видели? — шепчет Пальцын. — Золотые рога. Корона… Валюта…
Грузный, мрачноватый Пальцын преобразился. В голосе его нежность. Малоподвижное, всегда озабоченно строгое лицо становится мягким, мечтательным.
Маралы успокоились. Они разбредаются, щиплют траву, легкие и тихие, несмотря на свою огромность; лишь несколько стариков остается на страже, неподвижные, как скульптурные изваяния. Иногда они царственно поводят головами, и тогда панты их, похожие на небольшие деревца, отливают матово, платиной. Стоит свистнуть или шагнуть вперед, и стадо замрет. Еще шаг, и они исчезают между деревьями бесшумно, как призраки.
Мы приехали в начале сезона резки пантов. Сезон короткий, нужно успеть срезать все панты — иначе они закостенеют, превратятся в обычные рога и потеряют ценность.
Пантовка и вся техническая обработка пантов — длинная цепь тонких операций, созданных более чем столетним опытом алтайских мараловодов.
Прежде всего надо поймать марала, провести его через систему загонов к «разлучнику», в котором есть специальный станок для резки пантов.
Мы следим, как загонщики на лошадях подбираются к стаду, чтобы отделить выбранных быков. Начинается неравный поединок между загонщиком и маралом. Сразу видно, что марал быстрее и ловчее лошади; ей приходится гоняться за ним по крутым лесистым склонам самой что ни на есть разлюбезной для марала местности. На полном скаку загонщики осаживают лошадей, круто поворачивают, совершают над самым обрывом такие вольтажи, которым позавидуют цирковые наездники. Смотреть на их работу порой жутковато: марал упрямится, лошадь силой теснит его. Говорят, что марал, который свирепо и бесстрашно сражается с волками, который готов боднуть и человека, своими огромными рогами почему-то никогда не трогает лошади. И лошади загонщиков, словно зная эту слабость, не боятся маралов.