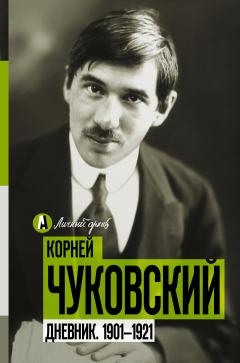Корней Чуковский - Дни моей жизни
Оказывается, И.Е. дал слесарю Иванову денег для того, чтоб не брал он сына своего из гимназии.
Четверг, 10 апреля. Сегодня в 1-й раз ходил босиком. Вдруг наступило лето, и тянет от книги, от мыслей, от работы в сад. Это очень неприятно, и я хочу хоть привязать себя к столу, а не сдаться. Нужно же воспользоваться тем, что вдруг наступил просвет. Я каждую ночь сплю — в течение месяца — без опия, без веронала и брома. Ведь два года я был полуидиотом и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли, а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки! Вчера я был у И.Е. — и, несмотря на шум и гам, прекрасно после этого спал, чего со мной никогда не бывает…
Были: Н. Д. Ермаков, который буффонил за обедом и чаем и в саду — по-армейски, самодовольно, однообразно. Это ловкий малый, он приезжает к И.Е. «за покупочками». Пошушукается где-ниб. в уголку и великолепный рисуночек выцарапает за 15–20 рублей. Ухаживает за И.Е. очень, возит его в Мариинский театр, и хотя И.Е. говорит иногда, что Ермаков «такая посредственность, ничтожество», но искренно к нему привязан. Была m-me Розо — полька, уродливая, как грех. Жила когда-то с «трактерным» художником Булатовым (по словам И.Е.) — теперь дама с ридикюлем: как бы сына женить на богатой — куда-то подает прошения, тоща, нудна, гугнява, говорит по-французски, по-итальянски, по-немецки — «фурия, горгона», как сказал мне вчера И.Е.
Потом был художник И. И. Бродский. Это божий теленок, как бывают «божьи коровки». Самовлюблен, в меру даровит — и глуп до блаженства. Добр. Говорит только о себе и любит рассказывать, за сколько продал какую картину. Были за столом дворник, горничная и кухарка — но Наталье Борисовне не перед кем было вчера разыгрывать демократку — и они пребыли в тени.
Был Руманов. Он той же породы, что Илья Василевский, — задняя часть человечества. Филей. При отсутствии мышления — хитрая приноравливаемость, «беспокойная ласковость взгляда и поддельная краска ланит», — лживость беспросветная — и все же он мне приятен. Мы с ним друг перед другом кокетничаем.
Вечер был ничем не замечателен. Мне только понравилось, что И.Е. сказал о крупном репинском холсте:
— Терпеть не могу! дрянь такая! вот мерзость! Я раз зашел в лавку, мне говорят: не угодно ли репинский холст, — я говорю: к черту!
25 апреля. Первый Бобочкин донос: — Мама, ты здесь? — Здесь. — (Помолчал.) — Коля показывает нос Лиде…
Май. И.Е. когда-то на Западной Двине (в Двинске) написал картину — восход солнца. «Знаете, как долго глядишь на солнце — то пред глазами пятачки: красный, зеленый — множество; я так много и написал. Подарил С. И. Мамонтову. Как ему плохо пришлось, он и продал ее — кому?»
Июнь. Квартира Михаила Петровича Боткина превращена в миллионный Музей. Этого терпеть не мог его брат, доктор Сергей Петрович: «Нет у тебя ни одной порядочной комнаты, где бы выспаться. Даже негде переночевать, — говорил он брату. — Искусство в большом количестве — вещь нестерпимая!»
22 июля. Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым:
— Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр.:
Бур шур Беляматокией, —
не могу писать прозы. Нет настроения.
Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И.Е. сказал ему:
— У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм.
— Значит, теперь я идиот.
— Конечно, если вы верите в этот вздор.
1914
4 февраля. Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства, — говорит Коля. — Дача Максимова — первое замечательство. Дом, где жила Паня, второе замечательство. Пенаты — третье замечательство».
Был на Маринетти: ординарный туповатый итальянец, с маловыразительными свиными глазками, говорил с пафосом Аничкова элементарные вещи. Успех имел средний.
Был на выставке Ционглинского: черно, тускло, недоделанно, жидко, трепанно, «приблизительно». Какую скучную, должно быть, он прожил жизнь.
Детское слово: сухарики-кусарики.
Около 10 февраля. «Как известно, Шаляпин гостит у И.Е.Репина; бегая на лыжах, артист сломал себе ногу и слег» — такая облыжная заметка была на днях напечатана в «Дне». Должно быть, она-то и вдохновила Шаляпина и вправду приехать к И.Е. Он на лиловой бумаге написал ему из Рауха письмо. «Приехал бы в понедельник или вторник — может быть пораскинете по полотну красочками». — Пасхально ликуем! — ответил телеграммой И.Е. И вот третьего дня в Пенатах горели весь вечер огни — все лампы — все окна освещены, но Шаляпин запоздал, не приехал. И.Е. с досады сел писать воспоминания о пребывании в Ширяеве — и вечером же прочитал мне их. Ах, какой ужас его статья о Соловьеве Владимире{1}. «Нива» попросила меня исправить ее, я исправил и заикнулся было, что то-то безграмотно, то-то изменить, — он туповато, по-стариковски тыкался в мои исправления, — «Нет, К.И., так лучше» — и оставил свою галиматью.
На следующий день, т. е. — вчера, в 12 ч. дня, приехал Шаляпин, с собачкой и с китайцем Василием. Илья Еф. взял огромный холст — и пишет его в лежачем виде. Смотрит на него Репин, как кошка на сало: умиленно, влюбленно. А он на Репина — как на добренького старикашку, целует его в лоб, гладит по головке, говорит ему «баиньки». Тон у него не из приятных: высказывает заурядные мысли очень значительным голосом. Например, о Финляндии:
— И что же из этого будет? — упирает многозначительно на подчеркнутом слове, как будто он всю жизнь думал только о положении Финляндии и вот в отчаянии спрашивает теперь у собеседника, с мольбой, в мучительном недоумении. Переигрывает. За блинами о Коммиссаржевской. Теперь вылепил ее бюст Аронсон, и по этому случаю банкет… — Не понимаю, не понимаю. Вера Федоровна была милая женщина, но актриса посредственная — почему же это, скажите.
Я с ним согласился. Я тоже не люблю Коммиссаржевскую. — Это все молодежь.
Шаляпин изобразил на лице глупость, обкурносил свой нос, раззявил рот, «вот она, молодежь». Смотрит на вас влюбленно, самозабвенно, в трансе — и ничего не понимает. — Почему меня должен судить господин двадцати лет? — не по-ни-маю. Не понимаю.
— Ну, они пушечное мясо. Они всегда у нас застрельщики революции, борьбы, — сказал И.Е.
— Не по-ни-маю. Не понимаю.
Со своей собачкой очень смешно разговаривал по-турецки. Быстро, быстро. Перед блинами мы катались по заливу, я на подкукелке, он на коньках. Величественно, изящно, как лорд, как Гёте на картине Каульбаха — без усилий, руки на груди, — промахал он версты 2 в туманное темное море, садясь также вельможно отдыхать. О «Деловом Дворе»{2} взялся хлопотать у Танеева. Напишет для «Нивы».
После обеда пошли наверх, в мастерскую. Показывал извозчика (чудно), который дергает лошаденку, хватается ежесекундно за кнут и разговаривает с седоком. О портретах Головина:
— Плохи. Федор Иоанныч — разве у меня такой? У меня ведь трагедия, а не просто так. И Олоферн тоже — внешний. Мне в костюме Олоферна много помогли Серов и Коровин. Мой портрет работы Серова — как будто сюртук длинен. Я ему сказал. Он взял половую щетку, смерил, говорит: верно.
Откуда я «Демона» взял своего? Вспомнил вдруг деревню, где мы жили, под Казанью; бедный отец был писец в городе и каждый день шагал верст семь туда и верст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама прядет, и еще бабы. (Недавно я был в той избе: «вот мельница, она уж развалилась», снял даже фотографию.) Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:
— Был Сатанаил, ангел. И был черт Миха. Миха — добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками — и отняли у него окончание ил и передали его Михе. Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила — Сатана.
Ну и я вдруг, как ставить «Демона» в свой бенефис, — вспомнил это, и костюм у меня был готов. Нужно было черное прозрачное, — но чтобы то там, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король.
Так иногда бабий разговор ведет к художественному воплощению.
Говорит о себе упоенно — сам любуется на себя и наивно себе удивляется. «Как я благодарен природе. Ведь могла же она создать меня ниже ростом или дать скверную память или впалую грудь — нет, все, все свои силы пригнала к тому, чтобы сделать из меня Шаляпина!» Привычка ежедневно ощущать на себе тысячи глаз и биноклей сделала его в жизни кокетом. Когда он гладит собаку и говорит: ах ты, дуралей дуралеевич, когда он говорит, что рад лечь даже на голых досках, что ему нравится домик И.Е., — все он говорит театрально, но не столь же театрально, как другие актеры.