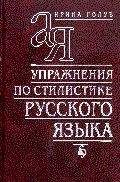Михаил Бахтин - Слово в романе
Вся та часть действия романа, которая разыгрывается вокруг Мердля и связанных с ним персонажей, изображена языком (точнее — языками) общего лицемерно восторженного мнения о нем, причем пародийно стилизуется то бытовой язык льстивой светской болтовни, то торжественный язык официальных заявлений и банкетных речей, то высокий эпический стиль, то стиль библейский. Эта атмосфера вокруг Мердля, это общее мнение о нем и его предприятиях заражает и положительных героев романа, в частности, трезвого Панкса, и заставляет его вложить все состояние — свое и крошки Доррит — в дутые предприятия Мердля.
7) «Доктор взялся сообщить эту новость в Гарлей-стрит. Адвокатура не могла сразу вернуться к умасливанию самых просвещенных и замечательных присяжных, каких ей когда-либо случалось видеть на этой скамье, присяжных, с которыми, она смеет уверить своего ученого друга, бесполезно прибегать к пошлой софистике и на которых не подействует злоупотребление профессиональным искусством и ловкостью (этой фразой она собиралась начать свою речь), и потому вызвалась идти с доктором, сказав, что подождет его на улице, пока он будет в доме» (кн. 2, гл. XV).
Резко выраженная гибридная конструкция, где в оправу авторской речи (осведомительной) — «адвокатура не могла сразу вернуться к умасливанию... присяжных... и потому вызвалась идти с доктором» и т. д. — вставлено начало подготовленной адвокатом речи, причем речь эта дана как развернутый эпитет к прямому дополнению авторской речи «присяжных». Слово «присяжных» входит как в контекст осведомительной авторской речи (в качестве необходимого дополнения к слову «умасливание»), так одновременно и в контекст пародийно-стилизованной адвокатской речи. Самое же авторское слово «умасливание» подчеркивает паридийность воспроизведения адвокатской речи, лицемерный смысл которой сводится именно к тому, что таких замечательных присяжных нельзя умаслить.
8) «Словом, мистрисс Мердль, какженщина светская и благовоспитанная, несчастная жертва грубого варвара (ибо мистер Мердль был признан таковым от головы до пят, с той минуты, когда оказалось, что он нищий) была принята под защиту своим кругом, ради выгод этого самого круга» (кн. 2, гл. XXXIII).
Аналогичная гибридная конструкция, где определение общего мнения светского круга — «несчастная жертва грубого варвара» — слито с авторской речью, разоблачающей лицемерие и корысть этого общего мнения.
Таков весь роман Диккенса. Весь его текст, в сущности, можно было бы испещрить кавычками, выделяя островки рассеянной прямой и чистой авторской речи, со всех сторон омываемые волнами разноречия. Но сделать это было бы невозможно, так как одно и то же слово, как мы видели, часто входит одновременно и в чужую и в авторскую речь.
Чужая речь — рассказанная, передразненная, показанная в определенном освещении, расположенная то компактными массами, то спорадически рассеянная, в большинстве случаев безличная («общее мнение», профессиональные и жанровые языки), — нигде четко не отграничена от авторской речи: границы намеренно зыбки и двусмысленны, часто проходят внутри одного синтаксического целого, часто внутри простого предложения, а иногда разделяют главные члены предложения. Эта многообразная игра границами речей, языков и кругозоров — один из существеннейших моментов юмористического стиля.
Юмористический стиль (английского типа) базируется, таким образом, на расслоенности общего языка и на возможности в той или иной степени отделять свои интенции от его слоев, не солидаризируясь с ними до конца. Именно разноречивость, а не единство нормативного общего языка является базой стиля. Правда, эта разноречивость здесь не выходит за пределы лингвистически единого (по абстрактным языковым признакам) литературного языка, не переходит здесь в подлинное разноязычие и установлено на абстрактно-языковое понимание в плане единого языка (то есть не требует знания разных диалектов или языков). Но языковое понимание — абстрактный момент конкретного и активного (диалогически причастного) понимания Живого разноречия, введенного в роман и художественно организованного в нем.
У предшественников Диккенса, зачинателей английского юмористического романа — у Филдинга, Смоллетта и Стерна, мы найдем ту же пародийную стилизацию различных слоев и жанров литературного языка, но дистанция у них резче, чем у Диккенса, утрировка сильнее (особенно у Стерна). Пародийно-объектное восприятие различных разновидностей литературного языка проникает у них (особенно у Стерна) в очень глубокие пласты самого литературно-идеологического мышления, превращаясь в пародию на логическую и экспрессивную структуру всякого идеологического (научного, морально-риторического, поэтического) слова как такового (почти с таким же радикализмом, как у Рабле).
Очень существенную роль в построении языка у Филдинга, Смоллетта и Стерна играет литературная пародия в узком смысле (на ричардсоновский роман у первых двух и почти на все современные разновидности романа у Стерна). Литературная пародия еще более отодвигает автора от языка, еще более осложняет его отношение к литературным языкам своего времени, притом на собственной территории романа. Господствующее в данную эпоху романное слово само делается объектным и становится средою преломления для новых авторских интенций.
Эта роль литературной пародии на господствующую романную разновидность очень велика в истории европейского романа. Можно сказать, что важнейшие романные образцы и разновидности были созданы в процессе пародийного разрушения предшествующих романных миров. Так поступали Сервантес, Мендоса, Гриммельсхаузен, Рабле, Лесаж и др.
У Рабле, влияние которого на всю романную прозу, и в особенности на юмористический роман, было очень велико, пародийное отношение почти ко всем формам идеологического слова — философского, морального, научного, риторического, поэтического — в особенности к патетическим формам этого слова (между патетикой и ложью для Рабле почти всегда знак равенства), углублено до пародии на языковое мышление вообще. Эта издевка Рабле над изолгавшимся человеческим словом выражается, между прочим, в пародийном разрушении синтаксических конструкций путем доведения до абсурда некоторых логических и экспрессивно-акцентных моментов их (например, предикаций, пояснений и т. п.). Отталкивание от языка (его же средствами, конечно), дискредитирование всякой прямой и непосредственной интенциональности и экспрессивности («важной» серьезности) идеологического слова, как условной и лживой, как злостно не адекватной действительности, достигает у Рабле почти предельной прозаической чистоты. Но истина, противостоящая лжи, почти вовсе не получает здесь прямого интенционально-словесного выражения, своего слова, — она звучит лишь в пародийно-изобличающей акцентуации лжи. Истина восстановляется путем доведения лжи до абсурда, но сама она не ищет слов, боится запутаться в слове, погрязнуть в словесной патетике.
Отмечая громадное влияние «философии слова» Рабле, — философии слова, выраженной не столько в прямых высказываниях, сколько в практике его словесного стиля, — на всю последующую романную прозу, и в особенности на великие образцы юмористического романа, приведем чисто раблезианское признание стерновского Йорика, признание, могущее послужить эпиграфом к истории важнейшей стилистической линии европейского романа:
«Я даже думаю, не лежала ли отчасти в основании таких fracas[19] его несчастная склонность к остроумию, — ибо, говоря по истине, Йорик питал непреодолимое природное отвращение к серьезности — не к настоящей, самоценной серьезности: где нужна была таковая, там он становился серьезнейшим человеком в мире на целые дни и даже недели, — а к серьезности напускной, служившей прикрытием невежества и глупости; с ней он всегда находился в открытой войне и не давал ей пощады, как бы она ни была хорошо прикрыта и защищена.
Иногда, увлекшись разговором, он утверждал, что серьезность — сущий бездельник, к тому же и наиболее опасного рода, хитрый, и что он был глубоко убежден, — она за один год разорила и пустила по миру гораздо большее число честных и благомыслящих людей, чем все карманные и лавочные воры за семь лет. Открытое добродушие веселого сердца, говаривал он, никому не опасно и может повредить разве только ему самому. Тогда как самая сущность серьезности заключается в известном умысле — следовательно, и обмане; это заученный способ прослыть на свете за человека более умного и знающего, нежели он действительно есть; а потому, несмотря на все ее претензии, она никогда не являлась лучше, а нередко даже хуже, чем определил ее в старое время один французский остроумец, который сказал: серьезность есть таинственное поведение тела, долженствующее прикрывать недостатки духа. Об этом определении Йорик необдуманно и смело высказывался в том смысле, что оно достойно быть записанным золотыми буквами».