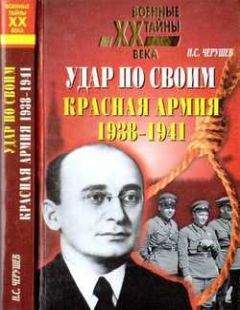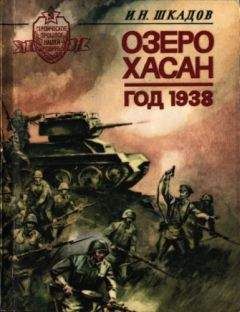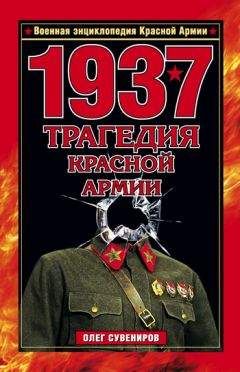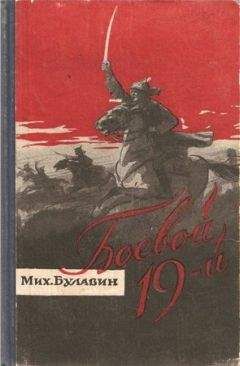Лев Троцкий - История русской революции. Том II, часть 2
С другой стороны, буржуазные круги на окраинах, всегда и неизменно тяготевшие к центральной власти, теперь ударялись в сепаратизм, под которым во многих случаях не было уже и тени национальной основы. Вчера еще ура-патриотическая буржуазия Прибалтики вслед за немецкими баронами, лучшей опорой Романовых, становилась, в борьбе против большевистской России и собственных масс, под знамя сепаратизма. На этом пути возникли еще более диковинные явления. 20 октября положено было начало новому государственному образованию в виде «Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей». Верхи донского, кубанского, терского и астраханского казачества, важнейшая опора имперского централизма, в течение нескольких месяцев превратились в страстных защитников федерации и объединились на этой почве с вождями мусульманских горцев и степняков. Перегородки федеративного строя должны были служить барьером против шедшей с севера большевистской опасности. Прежде, однако, чем создать важнейшие плацдармы гражданской войны против большевиков, контрреволюционный сепаратизм направлялся непосредственно против правящей коалиции, деморализуя и ослабляя ее.
Так, национальная проблема, вслед за другими, показывала Временному правительству голову Медузы, на которой каждый волос мартовских и апрельских надежд успел превратиться в змею ненависти и возмущения.
Большевистская партия, далеко не сразу после переворота заняла ту позицию в национальном вопросе, которая обеспечила ей в конце концов победу. Это относится не только к окраинам со слабыми и неопытными партийными организациями, но и к петроградскому центру. За годы войны партия так ослабела, теоретический и политический уровень кадров так снизился, что официальное руководство заняло и в национальном вопросе, до приезда Ленина, крайне пуганую и половинчатую позицию.
Правда, в соответствии с традицией большевики по-прежнему отстаивали право наций на самоопределение. Но эту формулу признавали на словах и меньшевики: текст программы оставался общим. Решающее значение имел, однако, вопрос о власги. Между тем временные руководители партии оказались совершенно неспособны понять непримиримый антагонизм между большевистскими лозунгами в национальном, как и в аграрном вопросе и между сохранением буржуазно-империалистского режима, хотя бы и прикрытого демократическими формами.
Наиболее вульгарное выражение демократическая позиция нашла под пером Сталина. 25 марта в статье, приуроченной к правительственному декрету об отмене национальных ограничений, Сталин пытается поставить национальный вопрос в исторической широте. «Социальной основой национального гнета, – пишет он, – силой, одухотворяющей его, является отживающая земельная аристократия». О том, что национальный гнет получил небывалое развитие в эпоху капитализма и нашел себе наиболее варварское выражение в колониальной политике, демократический автор как бы не догадывается совсем. «В Англии, – продолжает он, – где земельная аристократия делит власть с буржуазией, где давно уже нет безграничного господства этой аристократии, национальный гнет более мягок, менее бесчеловечен, если, конечно, не принимать во внимание (?) того обстоятельства, что в ходе войны, когда власть перешла в руки лэндлордов (!), национальный гнет значительно усилился (преследование ирландцев, индусов)». В гнете ирландцев и индусов оказываются виноваты лэндлорды, которые, очевидно, в лице Ллойд Джорджа, захватили власть, благодаря войне."…В Швейцарии и в Северной Америке, – продолжает Сталин, – где лэндлордизма нет и не бывало (?), где власть безраздельно находится в руках буржуазии, национальности развиваются свободно, национальному гнету, вообще говоря, нет места…" Автор совершенно забывает негритянский и колониальный вопрос в Соединенных Штатах.
Из этого безнадежно провинциального анализа, исчерпывающегося смутным противопоставлением феодализма и демократии, вытекают чисто либеральные политические выводы. «Снять с политической сцены феодальную аристократию, вырвать у нее власть, – это именно и значит ликвидировать национальный гнет, создать фактические условия, необходимые для национальной свободы. Поскольку русская революция победила, – пишет Сталин, – она уже создала эти фактические условия…» Мы имеем здесь, пожалуй, более принципиальную апологию империалистской «демократии», чем все, что писали на эту тему в те дни меньшевики. Как во внешней политике Сталин, вслед за Каменевым, надеялся разделением труда с Временным правительством достигнуть демократического мира, так во внутренней политике он в демократии князя Львова находил «фактические условия» национальной свободы.
На самом деле падение монархии впервые полностью обнаружило, что не только реакционные помещики, но и вся либеральная буржуазия, а за нею вся мелкобуржуазная демократия, вместе с патриотической верхушкой рабочего класса, являются непримиримыми противниками действительного национального равноправия, т. е. упразднения привилегий господствующей нации: вся их программа сводилась к смягчению, культурной полировке и демократическому прикрытию великорусского господства.
На апрельской конференции, защищая ленинскую резолюцию по национальному вопросу, Сталин формально исходит уже из того, что «национальный гнет – это та система… те меры… которые проводятся империалистскими кругами», но тут же неотвратимо сбивается на свою мартовскую позицию. «Чем демократичнее страна, тем слабее национальный гнет, и наоборот» – такова своя собственная, не заимствованная у Ленина абстракция докладчика. Тот факт, что демократическая Англия угнетает феодально-кастовую Индию, по-прежнему исчезает с его ограниченного поля зрения. В отличие от России, где господствовала «старая земельная аристократия», продолжает Сталин, «в Англии и в Австро-Венгрии национальный гнет никогда не принимал погромных форм». Как будто в Англии «никогда» не господствовала земельная аристократия или как будто в Венгрии она не господствует до сего дня! Комбинированный характер исторического развития, сочетающего «демократию» с удушением слабых наций, оставался для Сталина книгой за семью печатями.
Что Россия сложилась как государство национальностей, есть результат ее исторической запоздалости. Но запоздалость есть сложное понятие, неминуемо противоречивое. Отсталая страна вовсе не идет по пятам за передовой, соблюдая одну и ту же дистанцию. В эпоху мирового хозяйства запоздалые нации, включаясь, под давлением передовых, в общую цепь развития, перескакивают через ряд промежуточных ступеней. Более того, отсутствие прочно сложившихся общественных форм и традиций делает отсталую страну – по крайней мере, в известных пределах – крайне восприимчивой к последнему слову мировой техники и мировой мысли. Но отсталость от этого еще не перестает быть отсталостью. Развитие в целом получает противоречивый и комбинированный характер. Социальной структуре запоздалой нации свойственно преобладание крайних исторических полюсов, отсталых крестьян и передовых пролетариев, над средними формациями, над буржуазией. Задачи одного класса переваливаются на плечи другого. Выкорчевывание средневековых пережитков ложится также и в национальной области на пролетариат.
Ничто же характеризует с такой яркостью историческую запоздалость России, если брать ее в качестве европейской страны, как тот факт, что ей в двадцатом веке пришлось ликвидировать кабальную аренду и черту оседлости, т. е. варварство крепостничества и гетто. Но для разрешения этих задач Россия, именно вследствие своего запоздалого развития, обладала новыми, в высшей степени современными классами, партиями, программами. Чтобы покончить с идеями и методами Распутина, России понадобились идеи и методы Маркса.
Политическая практика оставалась, правда, гораздо примитивнее теории, ибо вещи изменяются труднее, чем идеи. Но теория все же лишь доводила до конца потребности практики. Чтобы добиться освобождения и культурного подъема, угнетенные национальности оказывались вынуждены связать свою судьбу с судьбой рабочего класса. А для этого им необходимо было освободиться от руководства своих буржуазных и мелкобуржуазных партий, т. е. далеко забежать вперед по пути исторического развития.
Соподчинение национальных движений основному процессу революции, борьбе пролетариата за власть, совершается не сразу, а в несколько этапов, притом по-разному в разных областях страны. Украинские, белорусские или татарские рабочие, крестьяне и солдаты, враждебные Керенскому, войне и русификации, становились тем самым, несмотря на свое соглашательское руководство, союзниками пролетарского восстания. От объективной поддержки большевиков они оказываются вынуждены на дальнейшем этапе и субъективно перейти на путь большевизма. В Финляндии, Латвии, Эстонии, слабее на Украине расслоение национального движения принимает уже к октябрю такую остроту, что только вмешательство иностранных войск может помешать здесь успеху пролетарского переворота. На азиатском Востоке, где национальное пробуждение совершалось в наиболее примитивных формах, оно лишь постепенно и со значительным запозданием должно подпасть под руководство пролетариата уже после завоевания им власти. Если охватить сложный и противоречивый процесс в целом, вывод очевиден: национальный поток, как и аграрный, вливался в русло октябрьского переворота.