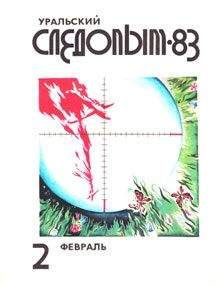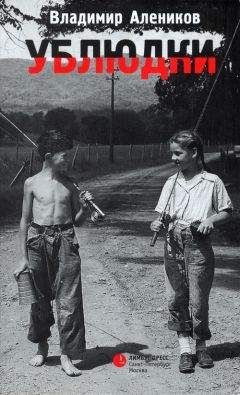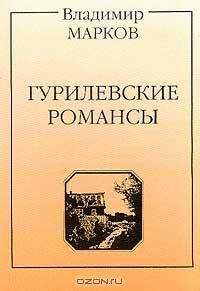Владимир Паперный - Культура Два
В 1938 г. заново оформляются интерьеры Исторического музея, построенного некогда В. Шер вудом и А. Семеновым в стиле, который культура 1 называла «псевдорусским», а культура 2 предпочитала никак не называть, и расписанного В. Васнецовым и Г. Семирадским квазиисторическими картинами типа «Похороны руса в Булгарии» (сохранившимися, кстати, до сегодняшнего дня), того самого Исторического музея, который Ле Корбюзье мечтал взорвать. Этим актом культура 2 как бы подхватывает усилия эпохи Александра III, направленные на поиски (или конструирование) собственных корней. Архитектор А. Буров, «высокий блондин, свободно говорящий по-французски» – таким увидели его в 1935 г. в Афинах[10], куда он заехал, возвращаясь с римского конгресса, – спустя десятилетие после постройки образцовой конструктивистской молочной фермы для эйзенштейновской «Генеральной линии» принимает эстафету Шервуда и Семенова, отрекаясь тем самым от установок своего друга Корбюзье, и созданные им интерьеры, по словам известного искусствоведа, выражают «глубокие закономерности, заложенные в древнерусском зодчестве, в особенности в «классических» образцах зодчества киевского, владимирского и московского, и, несомненно, роднящие его с традициями античного, главным образом греческого, искусства». Русское искусство перестает для Бурова быть «экзотическим, провинциальным курьезом» и становится «самобытной силой, с которой народный гений создал, на основе античной традиции, новое зодчество, неразрывно с ней связанное и ничем не уступающее зодчеству Византии, Проторенессанса или Возрождения» (Габричевский, с. 78).
26. П. Корин. Мозаика на станции метро «Комсомольскаякольцевая». 1951. (ФА, 1980).
27. Скульптура «История ВКП (б)» на ВСХВ. 1937. (МА).
Культура 2 как бы возносит над собой собственную историю. Причем под собственной историей она понимает всю историю России
28. К. Рыжков, А. Медведев, скульптор П. Кожин. Керамическое панно на станции метро «Таганская.». 1951. В верхнем круге можно разглядеть Минина и Пожарского. (ФА, 1980).
В этих словах Россия вступает как бы в спор с Византией и Ренессансом за право наследования античной традиции. Путь в Афины лежит уже не только через Рим, но и через Киев, Владимир и Москву. Постепенно, однако, и Афины и Рим как-то исчезают из поля зрения (хотя и остаются в подразумеваемом круге ассоциаций), и Москва из транзитного пункта традиции все больше превращается в ее начало и в ее же конец. К 1944 г., когда возникла задача восстановления разрушенных войной городов, культура уже обладала рецептом, ей уже было известно, как именно эти города надо восстанавливать и перестраивать: «Великие традиции русского градостроительства[11], великие ценности классической архитектуры и народного зодчества нашей страны составляют ту незыблемую основу, на которой должно твориться новое в архитектуре нашего времени» (Архитектура, с. 2).
Эту фразу можно, казалось бы, понимать по-разному: что такое эта «классическая архитектура», помещенная между «русским градостроительством» и «народным зодчеством нашей страны», – это наша или их классика? Культура 2 никакой двусмысленности в этой фразе не видит. Классика к этому времени могла быть только одна – наша классика, а если случайно важная часть этой классики оказывалась у них, то это все равно была наша классика. Так же примерно культура 2 обошлась и с философией Маркса: это была наша, а не немецкая философия, а заодно с ней нашей стала философская классика Гегеля (которого Сталин однажды спутал с Гоголем)[12] и даже Канта – последнее стало тем более оправданным, когда после аннексии Кенигсберга место рождения Канта оказалось расположенным на территории Советского Союза.
Таким образом, круг, который М. Я. Гинзбургу виделся «свершенным» уже в 1924 г., по-настоящему замкнулся только после войны.
Новая волна устремленности в будущее и разрыва с прошлым началась в советской культуре только в конце 50-х годов. Особенно ярко этот рывок в будущее проявился в фразе Н. Хрущева: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», – после чего с утра до вечера по радио мощный смешанный хор стал петь «Мы будем жить при коммунизме».
Футуризм 1910 – 1920-х годов обернулся в этот раз футурологическим проектированием архитектурной группы НЭР, других групп и отдельных авторов. Разумеется, проекты группы НЭР перекликаются с проектами английской группы «Archigram», но, во-первых, один из руководителей НЭРа Илья Лежава рассказал мне, что, когда они начинали, они ничего не знали про группу «Archigram», а вовторых, метод, избранный в этой работе, вообще не предполагает рассмотрения синхронных связей культуры.
Любопытная особенность этой новой футурологической волны: она ощущает себя именно второй волной. Она сжигает не все прошлое, а лишь то, которое сжигали двадцатые годы, сами же 20-е становятся для новой волны тем началом, с которого должно начаться будущее. А наиболее агрессивна эта новая волна как раз к той эпохе, которая разделила ее с 20-ми годами, то есть к культуре 2. В области политики это выразилось в идее «возвращения к ленинским нормам». В сфере пространственного мышления – в интересе к авангарду 20-х годов.
Здесь уместно будет прервать на время наше повествование и сменить, так сказать, оптику: взглянуть на культуру 2 не через прямой, а через перевернутый бинокль. Дело в том, что мироощущение, которым началась культура 1, – ощущение завершенности некоторой эпохи (царства) и начала новой эпохи, мироощущение, в котором присутствует разрыв с прошлым и самоубийственная устремленность в будущее, – уже несколько раз встречалось в истории русской культуры. Один из наиболее ранних примеров – это эпоха раскола.
К 1669 году раскольники ожидали второго пришествия Христа. Вот описание поведения крестьян Нижегородского края: «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали, не сеяли; по наступлении рокового 1669 г. бросили и избы… По старинному поверью кончина мира должна прийтись ночью, в полночь, и вот при наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали старые рубахи и саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа» (Милюков, 2, с. 49).
Формально раскольники апеллировали к прошлому, но при этом в их поведении явно присутствует нечто от формулы Маяковского: «будущего – сегодня». Они не просто ждут конца мира, а активно устремляются к нему. Раскольники выступают за старое благочестие, но все их поведение носит совершенно новаторский, даже, если угодно, авангардистский характер. «Раскол, – как утверждал еще историк Н. Костомаров, – явление новое, чуждое старой Руси» (цит. по: Милюков, 2, с. 136). Идеализация прошлого не мешает им, подобно Малевичу, «сжигать за собой свой путь».
Огромная волна сжиганий и самосожжений прокатилась по России в конце XVII в. Не менее 20000 человек погибло в этой волне (Милюков, 2, с. 69). «Взял бы я сам огонь, – говорит в 80-х годах один из энтузиастов сжигания, – и запалил бы город, как было бы весело, кабы сгорел он из конца в конец со старцами и младенцами…» (там же, с. 67).
О причинах этого устойчиво повторяющегося в русской культуре пафоса сжигания можно высказывать разные предположения. Может быть, здесь сохраняется какая-то традиция огневого земледелия и вообще привычка русского человека все бросать и начинать заново. Может быть, этот пафос как-то связан с языческим культом Сварожича (Аничков, с. 291). Не исключено, что он связан с ирано-арийскими элементами русской культуры (Куркчи).
Так или иначе, мне кажется, что при всем несходстве высказываний В. Шкловского («если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы ими») и неизвестного идеолога сжигания XVII в. («запалил бы город, как было бы весело»), при всем несходстве породивших эти высказывания ситуаций, в них есть и нечто общее, а именно: мироощущение, в котором причудливо сплетены трагизм самоуничтожения и странное веселье по этому поводу. И элементы этого мироощущения присутствуют, на мой взгляд, и в сжигании 12 января 1682 г. Разрядных книг, вместе с которыми огню предавалось генеалогическое прошлое: «да погибнет во огни, – гласит Соборное деяние, – оное Богом ненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомянется во веки!» (ПСЗ, 2, 905). Это же мироощущение можно увидеть и в сжигании Москвы в 1812 г., так поразившем французов, и в отношении А. Блока к сжиганию его библиотеки в Шахматове.
Эпоха Петра началась ярко выраженным разрывом с прошлым. Как и ленинская эпоха, она ввела новый календарь (ПСЗ, 3, 1735), новую столицу, утвердила новый стиль в одежде и поведении. Но чем дальше, тем больше в этой эпохе начинает ощущаться поворот взгляда от будущего в прошлое. Прошлое теперь тоже не бросается «как падаль», это прошлое мгновенно застывает, превращаясь в памятники истории. При награждении бомбардиров второго Азовского похода Петра им зачитывается уже написанная история этого похода. История Свейской войны (как и история метро) пишется параллельно с ведением самой войны (ПСЗ, 4, 2040). История Петербурга начинает писаться всего через двадцать лет после закладки города. К концу жизни Петра издается указ собрать и напечатать все проповеди, произнесенные в честь взятия городов (Яковлева, с. 10).