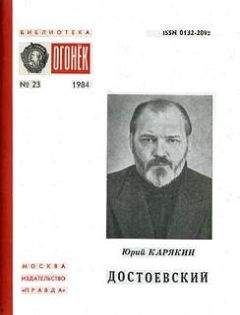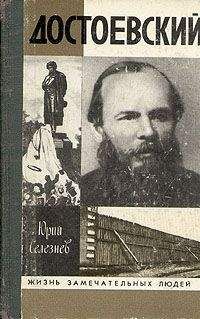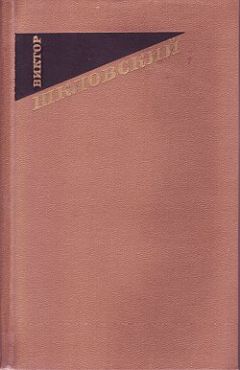Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
2. «Зимние заметки о летних впечатлениях»: «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся» (5; 70). И тут — фрагменты картины всемирной истории, и тут — набросок апокалипсического образа истории.
Короче, без самого непосредственного — воочию — знания как России, так и Запада, и не могла произойти смена его убеждений.
«Глубина сибирских руд», каторга дала ему как бы своего рода «Менделееву таблицу» глубинных народных характеров в их «чистом», беспримесном виде. А Запад не только не ввел в заблуждение насчет своих «высших достижений» своей «выставкой» (цитированные слова — «какое-то пророчество из Апокалипсиса» — непосредственно характеризуют именно выставку, первую Всемирную промышленную выставку), — Достоевский и увидел там зарницу Апокалипсиса.
В «Мертвом доме» Достоевский сделал, может быть, самое великое открытие: увидел здесь то, что можно было бы назвать «плазмой» человечества.
Потом Подпольный. Потом Раскольников… Потом «Идиот». «Подросток». «Братья». И главное — Смешной. Это настоящее открытие и себя, и людей. Ср. он же о самой трудной задаче искусства (а в сущности, религии) — создать образ, не выдумать, а открыть, создать из имеющегося — образ «положительного героя». Он и создал — Смешного и самого себя («сделать из своей жизни художественное произведение»).
«Дневник писателя». Особенная, специфическая русская традиция. Перейти от слов к делу. Началось с Пушкина. Как же иначе понять — «Современник», «Литературная газета» Пушкина? Толстого? Гоголевскую — последнюю — «Избранную переписку»?.. Но каждый раз каждый из них вмешательством своим в политику — «давал петуха».
У русского писателя две черты:
1) вмешаться в жизнь;
2) вмешиваясь, «давать петуха». И это у всех — от Достоевского до Солженицына.
О примечаниях
Что такое примечания? Читаешь, вдруг нужно смотреть вниз, потом вверх, вниз-вверх, вниз-вверх; раздражает, шея болит — и не художественно… Сначала думал: примечания должны быть как подарок: если уж заглянул в них, то обрадовался, а потом понял — дай подарок тут же.
Различие между текстами художественными и научными.
В научных — понятно, примечание есть нечто общепризнанное, узаконенное. В художественных (а я хочу — мой жанр — понять-исполнить) примечание — это, каким бы «тонким» оно ни было, каким бы «подарком» оно не представлялось, все равно нарушение меры, все равно — некрасивость, т. е. — убивает.
Выход? Выход — открытый для меня Лидией Корнеевной Чуковской в книге об Ахматовой (помню: примечания к «Запискам» читать было ничуть не менее интересно и занимательно, чем главный текст). Ну и, конечно, примечания у Андрея Битова в «Пушкинском доме», когда они, примечания, превращаются тоже в особый жанр. Примечания, собранные вместе, — это и есть особый жанр. Тут могут быть — есть! — свои сюжеты, фабулы, детективы, если угодно. Это другая, соотносимая с главным текстом орбита.
«Сноски», ссылки на… — это не только и даже не столько академическая чистоплотность, обязательность, сколько нравственная дань, благодарность, духовная благодарность. Сделать вдохновенную страничку об этом. И — «да будут прокляты» все плагиаторы, все те, которые по Вийону… Впрочем, «проклятия» надо начать серьезно, даже мелодраматично, а закончить весело.
Вообще специально посидеть и подумать над тем, чтобы быть демонстративно сведущим в предшественниках, демонстративно благодарным, но все-таки, если так можно выразиться, демонстративно — скрытым, ненавязчивым, чтобы это тихо бросалось в глаза.
Дать сноски на всех главных авторитетов, с комментарием непременно.
Долинин, Гроссман в 30-х. Читать невыносимо больно: что и как они пишут… Но ведь это: что и как их заставляли писать… А они-то уж все-все знали.
Обязательно сказать Слово о них, об их подвиге — не будь их, не имели бы мы сейчас ни тридцатитомника, ни… В абсолютно невероятных условиях спасали, прятали, маскировали Достоевского. Поддельные документы ему выдавали. Какая-то «Красная капелла» в центре гитлеровского Берлина! И ведь не покушение готовили, а спасали — и спасли. Не подымается рука написать, не открывается рот сказать что-либо дурное о них. Наоборот, вечная им благодарность.
Вон даже Бахтина принудили (ни слова о религии, поразительные вульгаризмы социологические).
Другое дело прихвостни, циники, доносчики — Ермиловы и др., — и об этих Слово. Мой разговор с Ермиловым в Переделкино.
Еще о сносках: понятно, ужасно хочется продемонстрировать (похвастаться, попавлиньничать) свою эрудированность, свое «многознание» (Гераклит: многознание не научает уму). А это просто-напросто — тщеславие. Любой момент так называемой эрудиции должен быть употреблен только в дело, только к месту, а не для демонстрации эрудиции, т. е. — незаметно (если к делу, то и — незаметно).
Все рациональное, тобой познанное, научное, должно быть не продемонстрировано, а растворено: умному — намек, глупому — дубина не поможет.
Вообще жуткое отсутствие самосознания пишущих научно, околонаучно, художественно, околохудожественно именно в вопросе о примечаниях; даже, посмею сказать, и у Выготского, и у Бахтина, и у Лотмана (меньше всего). Происходит неосознанное смешение всех жанров. Литературоведение, искусствоведение — что это такое? Бесконечные справки о фактах? Или? Для меня это: понимание — исполнение. Все остальное — только средство. Средства не должны демонстрировать себя. Они, исполнив роль свою, должны быть спрятаны незаметно, а не демонстрируемы.
Не путать: путь к достижению цели должен быть столь же страстен и мучителен для читателя, как и для писателя.
Примечания на девять десятых пишутся после завершения книги в целом. Старая неразрешимая задача, «квадратура круга» — начинаешь писать о чем-либо… Надо ли знать все написанное до тебя и лишь после этого начинать свое? Абсолютного ответа на этот вопрос нет хотя бы потому, что кое-чего из этой прежней литературы ты не можешь не знать. И все-таки: во время своей работы лучше поменьше знать чужого. Но потом — обязательно и особо скоординироваться с этой прежней литературой. Острее замечаешь свои промахи, содержательнее радуешься своим удачам, своим точностям. В этом и будет состоять личностный пафос примечаний.
Не совсем я точен в разделе «Встреча со смертью» и с личной, и с народной, национальной, и с общечеловеческой.
Встреча со смертью может быть дьяволовым искушением.
У Достоевского в «Великом инквизиторе» три искушения.
Первое: превратить камни в хлебы. «Единственное абсолютное бесспорное знамя <…> знамя хлеба земного». Ответ Христа: не единым хлебом жив человек, т. е. — аксиома и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла бы подходить только к человеку-скоту: «Достроит (Вавилонскую башню. — Ю.К.) только тот, кто накормит». Накорми их, а тогда и спрашивай с них добродетели. Вселить лучше идеал красоты, люди станут братьями друг другу. А дай хлеб — они от скуки станут врагами. Дать хлеб и красоту (свободу) вместе? То есть — ДАРОМ? Не будет самотруда, самоодаления…[130]
Второе: «верзись вниз» (яви чудо, и все за Тобой пойдут. Сойди с креста, и все за Тобой пойдут. Не сошел).
Третье: возьми меч кесаря, и весь мир за Тобой пойдет. Отверг. Отверг насильственное всемирное объединение…
А мы, мы — не отвергли, мы сделаем. «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия» (14; 229).
Но может быть и четвертое искушение — Искушение смертью. Да, Достоевский сам написал: «Бытие начинается только тогда, когда ему грозит небытие». Сам прежде всего познал это на собственном опыте (22 декабря 1849 года несостоявшийся расстрел, 16 апреля 1864-го, смерть жены Маши; да еще всю жизнь знал страх за смерть России, за смерть человечества). Но и сам же написал: «Спасение животишек — есть бессильная идея и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца» (26; 167). Вот это и есть четвертое искушение. Люди могут пойти на все, чтобы «спасти животишки». Могут все-все отдать за это. И тогда непременно найдется земное воплощение этого дьявольского искушения. Паническое спасение животишек и есть предельное, самое предельное выражение самого невыносимого бремени, бремени свободы выбора, бремени свободы вообще. «Возьми, дьявол, нашу жизнь, делай с ней что хочешь, но только сохрани ее нам…» Это дьяволово искушение более всех других грозит дьяволовой победой.
Четвертое искушение? Может быть, и так. А может быть — лишь «высшая» (на самом деле — низшая) ступень отказа от своей свободы, от своей богочеловечности, в угоду человеку-божеству. Кириллов о «страхе смерти»). А еще, может быть, это дьяволово искушение есть «высшее» (на деле самое, самое низкое) проявление сосредоточения всех трех искушений.