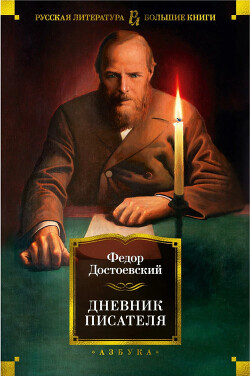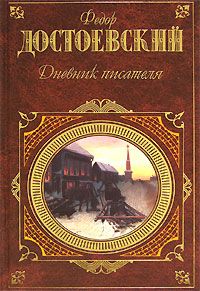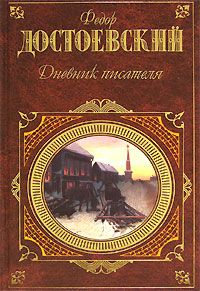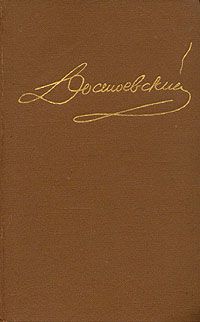Дневник писателя - Достоевский Федор Михайлович
В старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у них была своя честь, хоть и не в европейской форме, но не менее чем там, священная и серьезная, и из-за этой чести боярин пренебрегал иной раз всем – состоянием своим, положением своим при дворе, даже царскою милостью. Но, с переменою костюма и с введением европейской шпаги, началась у нас новая, европейская честь и – в целые два века не принялась серьезно, так что старое забыли и оплевали, а новое приняли недоверчиво и скептически. Приняли, так сказать, механически, а душевно позабыли, что значит честь, и сердечную потребность в ней утратили, и это, страшно признаться, за весьма, может быть, малыми исключениями.
В эти два века нашего европейского и шпажного, так сказать, периода честь и совесть, странно даже сказать, сохранилась наиболее и даже целиком в нашем народе, до которого почти и не коснулся шпажный период нашей истории. Пусть народ грязен, невежествен, варварствен, пусть смеются над моим предположением без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш несравненно чище сердцем высших наших сословий и что ум его далеко не настолько раздвоен, чтоб рядом с самою светлою идеею лелеять тут же, тотчас же, и самый гаденький антитез ее, как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще оставаться с обеими этими идеями, не зная, которой из них веровать и отдать преимущество на практике, да еще называть это состояние ума и души своей – богатством развития, благами европейского просвещения, и хоть и умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время из всех сил смеяться над простым, не тронутым еще чужою цивилизацией народом нашим за наивность и прямодушие его верований… Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый из народа постыдится иных мыслей и побуждений иного нашего «высшего деятеля», я уверен в том, и с отвращением отвернется от большей части дел наших интеллигентных людей. Я уверен, что он не понимает и долго еще не поймет, что можно наедине, за дверями, когда никто не подглядывает, делать про себя пакости и считать их вполне дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому, что нет свидетелей и никто не подглядывает, – а между тем эта черта до ужаса часто практикуется в интеллигентном сословии нашем, да еще без малейшего зазрения совести, и даже, напротив, весьма часто с высшим удовлетворением ума и высших свойств просвещенного духа. По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями. Между тем мы на народ-то и смотрим именно как на похабника, пакостника, обскурантного ругателя и находящего лишь наслаждение в ругательстве. Кстати припомнить, тем более, что это уже давно прошло и изменилось. Во времена моей юности было у военных людей, в огромном большинстве их, убеждение, что русский солдат, как вышедший из народа, чрезвычайно любит говорить похабности, ругатель и сквернослов. А потому, чтоб быть популярными, иные командиры, на учениях например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств, а потом, у себя в казармах, старались забыть высказанное начальством, и на того, который припоминал, вскрикивали всею артелью. Я бывал сам лично тому свидетелем. А командиры-то как довольны были в душе, что вот, дескать, как они подделались под дух русского солдата! Да чего, – даже Гоголь в «Переписке с друзьями» советовал приятелю, распекая крепостного мужика всенародно, употреблять непременно крепкие слова, и даже приводил, какие именно: то есть именно те из них, которые садче, в которых как можно больше бы оказывалось, так сказать, нравственной похабности, чем наружной, утонченности чтоб в ругательстве больше было. Между тем народ русский хоть и ругается, к сожалению, крепкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, в самой незначительной даже своей доле (поверят ли тому?), а главное (и бесспорно), ругается он скорее машинально, чем с нравственною утонченностью, скорее по привычке, чем с умыслом, и вот это-то, последнее-то, то есть с умыслом, случается лишь в чрезвычайно редких экземплярах у бродяг, пропойц и всяких стрюцких, презираемых народом. Народ хоть и ругается по привычке, но сам знает, что эта привычка скверная, и осуждает ее. Так что отучить народ от ругательств, по-моему, есть просто дело механической отвычки, а не нравственного усилия. Вообще эта идея о народе нашем как о любителе подлых ругательств, по моему мнению, укоренилась в интеллигентном слое нашем, главное, уже тогда, когда уже произошел окончательный, нравственный разрыв его с народом, кончившийся, как известно, со стороны интеллигентного слоя нашего совершенным непониманием народа. Тогда-то явилось много и других всяких ошибочных идей о нашем народе. Пусть не поверят мне и свидетельству моему, что народ наш вовсе не такой ругатель, как до сих пор его представляли себе и описывали, пусть: я ведь убежден, что свидетельство мое оправдывается. Те же надежды, которые возлагаю я на народ, возлагаю я и на юное поколение наше. Народ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо ближе и успешнее поймут друг друга, чем то было в наше время и в наше поколение. В молодежи нашей есть серьезность, и дай только бог, чтоб она была умнее направлена. Кстати о молодежи: один весьма молодой человек прислал мне недавно в письме весьма резкое возражение на одну тему, на какую – умолчу, и подписался под своим резким (но отнюдь не невежливым) письмом en toutes lettres, [254] да еще выставил адрес. Я пригласил его к себе объясниться. Он пришел и поразил меня горячностью и серьезностью своего отношения к делу. Кой в чем он со мной согласился и ушел в раздумье. Замечу еще, что, как мне кажется, юное поколение наше гораздо лучше умеет спорить, чем старики, то есть собственно в манере спора: они выслушивают и дают говорить – и это именно оттого, что для них разъяснение дела дороже их самолюбия. Уходя, он пожалел о резкости письма своего, и все это вышло у него с неподдельным достоинством. Руководителей нет у нашей молодежи, вот что! А уж как она в них нуждается, как часто она устремлялась с восторгом вослед людей, хотя и не стоивших того, но чуть-чуть если искренних! И каковы или каков должен быть этот будущий руководитель – там кто бы он ни был? Да и пошлет ли еще нам таких людей наша русская судьба – вот вопросы!
План обличительной повести из современной жизни
А ведь я об анонимном ругателе еще не кончил. Дело в том, что этакой человек может представить собою чрезвычайно серьезный литературный тип, в романе или повести. Главное, тут можно и надо взглянуть с иной уже точки зрения, с точки общей, гуманной и согласить ее с русским характером вообще и с современною текущею причинностью появления у нас этого типа в особенности. В самом деле, чуть-чуть вы начнете работать над этим характером, как тотчас сознаетесь, что у нас без таких людей теперь и не может быть, или еще ближе – что только подобного рода людей мы, скорее всего, и ожидать должны в наше время, и что если их сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божией. В самом деле, все это народ, взросший в наших недавних шатких семействах, у недовольных скептических отцов, передавших детям одно равнодушие ко всему насущному и много-много что какое-то неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического, но во что, однако же, наклонны уверовать даже эти так называемые готовые реалисты и холодные ненавистники нашего настоящего. Да сверх того передавших им, разумеется, свой скептический бессильный смех, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли взросло за последние двадцать – двадцать пять лет детей у этих гадких завистников, проживших последние выкупные и оставивших детям нищету и завет подлости, – разве мало таких семейств? И вот молодой человек вступает, положим, на службу. Фигуры нет, «остроумия нет», связей никаких. Есть природный ум, который, впрочем, у всякого есть, но так как он у него воспитан прежде всего на бесцельном зубоскальстве, вот уж двадцать пять лет принимающемся у нас за либерализм, то, уж конечно, наш герой свой ум немедленно принимает за гений. О, боже, как не оказаться безграничному самолюбию, когда человек вырос без малейшей нравственной выдержки. И сначала он куражится ужасно, но так как в нем все-таки ум (я для типа предпочитаю взять человека несколько умнее средины людей, чем глупее, ибо только в этих двух случаях и возможно появление такого типа), то он скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. И что если довольствовался им его батюшка, то ведь потому, что тот был все же старый колпак, хоть и либеральный человек, ну, а он, сынок, все же гений, и только вот покамест проявить себя затрудняется. О, он, конечно, готов на всякую самую положительную подлость в душе, «ибо почему же не употребить подлость в дело? Да и кто может доказать в наш век, что подлость есть подлость» и т. д. и т. д. Одним словом, он ведь взрос на этих готовых вопросах. Но он скоро догадывается, что ныне, чтоб даже и подлость-то употребить в дело, надо ждать долгой вакансии, да к тому же от нравственной готовности на подлость до дела даже и ему, пожалуй, далеко, и надо предварительно еще, так сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь он поглупее, он бы мигом устроился: «Высшие поползновения долой и примоститься поскорее к тому-то или к такому-то, да уж и тянуть за ним лямку послушно и убежденно и – в конце карьера». Но самолюбие-то, убеждение-то в своей гениальности пока еще долго мешает: не может он даже и в мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою с судьбой такого-то иль такого-то. «Нет-с, мы пока еще в оппозиции, а если они захотят меня, то пусть сами придут – поклонятся». И вот он ждет, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждет, а между тем под боком у него такой-то уже шагнул выше его, другой уже примостился, а третий уже сел ему в начальники, – этот третий, которому он же, там, в их «высшем училище», изобрел прозвище и пустил на него эпиграмму в стихах, когда рукописный, училищный журнал издавал и слыл там за гения. «Нет-с, это обидно! Нет, зачем же не я, а он? И везде-то, везде-то все занято! Нет, – думает он, – тут не моя карьера, да и что служить, служат мешки, мое поприще литература», – и вот он начинает рассылать по редакциям свои произведения, сначала incognito, потом с обозначением полного имени. Ему, разумеется, не отвечают; в нетерпении он пускается лично обивать пороги редакций. При случае, получая обратно рукопись, позволяет себе даже поострить, желчно позубоскальничать, так сказать, сердце сорвать, но все это не помогает. «Нет, видно, и тут все занято», – думает он, скорбно усмехаясь. Главное, его все мучит роковая забота отыскивать всегда и везде как можно больше людей хуже себя. О, он бы и понять никогда не мог, как это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вот тогда-то он и натыкается в первый раз на мысль пустить в какую-нибудь редакцию, из тех, где его наиболее обидели, злобное неподписанное письмецо. Написал, пустил, повторил в другой раз – понравилось. Но последствий все-таки никаких, все по-прежнему кругом его глухо, немо и слепо. «Нет, что ж это за карьера», – решает он окончательно и решает наконец «примоститься». Он выбирает лицо – именно своего начальника-директора, тут, может быть, как-нибудь помогает ему и случай и связишки. И Поприщин у Гоголя начал ведь с того, что отличился чинкою перьев и был вытребован для сей цели в квартиру его превосходительства, где и увидал директорскую дочку, для которой очинил два пера. Но время Поприщиных прошло, да и перьев теперь не чинят, да и не может изменить наш герой своему характеру: не перья в его голове, а самые дерзкие мечты. Короче, в самый короткий срок, он уже убежден, что пленил директорскую дочку и что та по нем изнывает. «Ну вот и карьера, – думает он, – да и к чему бы годились женщины, если б нельзя было через них сделать умному человеку карьеру: в этом, в сущности, весь женский вопрос и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходил на дорогу через женщин?» Но – но тут как раз подвертывается, как и у Поприщина, адъютант! Поприщин поступил по своему характеру: он сошел с ума на мечте о том, что он испанский король. И как натурально! Что могло оставаться приниженному Поприщину, без связей, без карьеры, без смелости и без всякой инициативы, да еще в то петербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему? Но наш Поприщин, современный нам Поприщин, – ни за что в мире не в состоянии поверить, что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторившийся тридцать лет спустя. В душе его громы и молнии, презрение и сарказмы, и – и вот он бросается тоже в мечту, но в другую. Он вспоминает, что на свете могут быть анонимные письма и что они уже раз употреблены им, и – вот он рискует свое письмецо, но уже не в журнальную редакцию, а почище-с: он чувствует, что вступает в новый практический фазис. О, как он запирается в своей каморке от своей хозяйки, как трепещет, чтоб за ним не подглядели, но он строчит, строчит, изменяя почерк, создает четыре страницы клевет и ругательств, перечитывает с наслаждением и – просидев ночь, к рассвету запечатывает письмо и адресует – к жениху адъютанту. Почерк он изменил, он не боится. Вот он рассчитывает часы, вот теперь письмо должно дойти – это жениху об его невесте, – о, тот, конечно, откажется, он испугается, ведь это же не письмо, а «шедёвр»! И молодой наш друг изо всех сил знает, что он подленький негодяй; но он этому только рад: «Ныне-де время раздвоения мысли и широкости, ныне прямолинейной мыслью не проживешь».