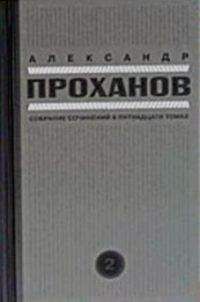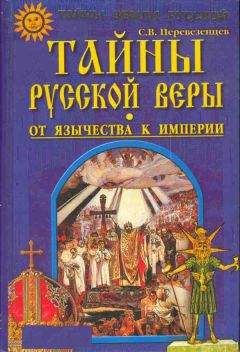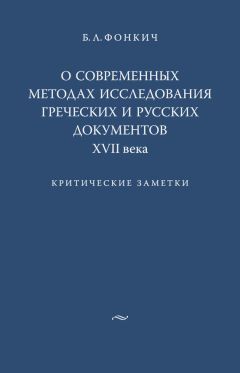Юлий Медведев - Бросая вызов
«Возникают ли приспособленные реакции у человеческих популяций в наши дни или это все в прошлом? — спрашивает Алексеева и прямо отвечает: — Да, и в наши». Лестно, когда наука с нами заодно. Мы ведь и сами знаем поразительные примеры обрусения, окавказивания, обузбечивания и т. п.
Американские антропологи Р. Ньюмен и Е. Myнро заинтересовались, как распределяются размеры тела в группах белого населения Соединенных Штатов на сравнительно малой территории и сравнительно недавно ими заселенной. И что же? Они подчиняются вышеупомянутому правилу: массивные и короткие варианты сосредоточены на севере, длинноногие и продолговатые— на юге.
Байрон говорил: какова почва, такова и душа человека. Ну, о душе поговорим еще, а на теле почва сказываться действительно должна. Как тут не вспомнить акселерацию. Она охватила почему-то не весь земной шар, но главным образом умеренные широты. Их климат балует в последние десятилетия потеплением. Кстати, умеренные широты экономически наиболее обеспеченные районы мира. Вот вам и приспособительная реакция в наши дни! Климатическое объяснение акселерации не глупее других (распространение радиоволн, ликвидация тяжелого физического труда детей, спорт, комфорт и т. п.).
(Теория сильна предвидением. Строим прогноз. Поскольку впереди возможно длительное похолодание, акселерация сменится ретардацией, так что уже сейчас модельерам стоит подумать о подготовке общественных вкусов к новым идеалам красоты, а именно — низкому росту, коротким ногам и шее, низкой и широкой талии.)
А под конец нет ничего приятнее сказать: все это ерунда, на самом деле, совсем другое. Пахать землю стали глубже — оттого и акселерация! Да. Выпахивают наверх больше прежнего микроэлементов, они попадают к нам в пищу и воздействуют на обмен.
Ну и так далее… до следующего, «еще более окончательного» объяснения.
Круги великой активности
Адаптивный тип подводит нас отчасти к понятию этнос в трактовке Льва Николаевича Гумилева, историка и географа, вернее, историко-географа. Есть такая «специализация». Пусть после этого говорят, что нельзя объять необъятного. Ученый объемлет историю природы и историю людей, чтоб заняться третьим — историей их отношений.
Слушал однажды его в Географическом обществе. Замкнут, сух, на вопросы еле отвечает, в речи натянутость, опасение сказать что-нибудь сверх необходимого, говорит негромко, заставляя аудиторию напряженно вслушиваться, но вдруг прорвутся каскады зарисовок, намеков, вольнодумств. «Зальдивший жар страстей», он интригующ и далек.
Книги Гумилева неслышно подводят нас к рабочему столу щепетильного своего автора, и, оставаясь невидимыми, мы можем словно бы читать через его плечо и следить за непроизвольными движениями его лица. Здесь, наедине с историей, он иной, чем на людях, — чуток, терпим и даже, сколько это для него допустимо, лиричен. Склонность ко всему древнему составляет тайну изысканного топа лучших его работ, таких, на мой взгляд, как «Поиски вымышленного царства», «Хунну», «Открытие Хазарии», многие страницы которых пропитаны благоуханием дорогой его сердцу древней Азии и ее этносов, книг, мне думается, жемчужных в исторической литературе (издай их сегодня — будут нарасхват), увы, неведомых не только широкой читающей публике, но и своему читателю из-за слишком малого числа выпущенных (в шестидесятые годы в «Науке») экземпляров — что-то около семи тысяч каждая.
Патриотизм русских поэтов, музыкантов, историков, путешественников всегда был прекрасно совместим с дружественным интересом к сопредельному «киргиз-кайсацкому» юго-востоку, чинившему Руси в историческом прошлом много напастей. Гумилев, отпрыск потомственных петербуржцев, плоть от плоти столичной интеллектуальной элиты, воспринял этот интерес вполне.
Глухим намеком на особое касательство автора к избранной теме служит оброненная в «Открытии Хазарин» справка. Оказался он некогда в Таджикистане, посредине Средней Азии, средь азиатов, с их лицами, небом, нравами, преданиями старины, и все это, наблюдаемое снизу, с земли, глазами труженика, занятого невидной и грязной работой малярийного разведчика, выглядело не «азиатчиной», а чем-то предпосланным, глубоко посаженным и взлелеянным здесь, ничуть не менее правильно, чем голубоглазая розовощекая «европейщина» на своем месте.
Тогда и заквасились, чтоб потом взойти, идеи гумилевских историко-географических построений.
Этнос… Этническая общность, народность, народ, нация… Есть ли что-нибудь менее определенное, чем это? И есть ли что-нибудь, получившее больше определений?
Этнос — изначальное, первичное, не выводимое ни из чего. Нет ни одного реального признака для определения этноса применительно ко всем известным случаям, говорит Гумилев. Язык, происхождение, материальная культура, идеология иногда являются определяющими, а иногда нет. Что же он такое? «Это тот или иной коллектив людей (динамическая система), противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам («мы» и «не мы»), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения; то и другое подвижно, то есть является одной из фаз этногенеза, процесса возникновения и исчезновения этнических систем в историческом времени».
Тот или иной… Не всякий, надо думать. Но, пожалуй, и театральный, и футбольный, и школьный коллектив согласен отнести к себе сказанное выше. Некоторая расплывчатость. К тому же в определение затесалось определяемое понятие, получается круг: «то же через то же». Этнос — одна из фаз этногенеза…
Свои историко-географические разработки Л.Н. Гумилев назвал однажды сюитами — в подстрочном комментарии, правда, петитом, однако слово сказано, и непростое слово. Автор обронил ключ к какому-то секрету, который не хотел бы открывать сам, но непрочь, если откроет другой. В том ли секрет, что тональность — вот основа, соединяющая между собой отдельные части его произведения? Сочинитель исторических сюит намекает нам, что и художественное подспорье требуется для осмысления предмета столь переменчивого и своенравного, как этнос. Сюита это вещь, не претендующая на чрезмерную строгость. А меньше строгости — больше прав участия нам с вами. Читатель волен сомневаться, сочувствовать, вопрошать…
Итак, с чего все пошло? Как складывался «тот или иной коллектив»? Что надоумило его обособиться и противопоставить себя всем? Что за импульсы солидарности и самоутверждения подчиняют себе волю людей, заряжают их безумной целью, завлекают в пучину неизвестности — на кровопролития, торжество победы и позор поражения, из чего выковывается этнос, чтобы потом когда-нибудь пробил и его последний час и он сгинул, оставив по себе воспоминания или ничего не оставив?
Гумилевский этнос, как и адаптивный тип, не узко-расовой принадлежности, а другой, более поздней. Он уроженец и отражение вмещающего ландшафта, приноравливаемого к себе.
«Историю… можно разделить на историю природы и историю людей, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс — Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга»[3]. Мысль эта — ключ, в котором написаны «сюиты». Переплетают, оплодотворяют, прорастают друг друга биологическое и социальное, чтобы родился и вызрел самостийный, ни на какой не похожий, самолюбивый, гордый, поворачивающий колесо истории этнос. Еще раз: откуда исходят импульсы этнического самоопределения? Разряды каких конденсаторов наэлектризовывают единством конгломераты людей, разрозненно преследовавших каждый свою частную цель? Почему этнос возник? Почему угас?
Когда б не встряски, не толчки, не сбои в биосфере, изнутри и снаружи, из космоса, «свободная энергия живого вещества должна была бы свестись к нулю». Аномалии и эксцессы в природе — силы, по крайней мере, запускающие процессы этногенеза.
Прихотью распределения холода и тепла, воды и суши, света и тени, вершин и низин заведены па нашей планете самые разные коллекции питающихся. В каждом природном окружении коллекции эти соединились взаимной необходимостью, притерлись, притерпелись, прижились. Если посмотреть сверху, с высот научных абстракций, вся палитра жизни может представиться трепещущими сгустками энергии. Для нее придумано особое название — биохимическая энергия. Она пульсирует и переливается, вспыхивает и опадает, подобно игре огня в камине. Ее возбуждают аномалии и эксцессы; скажем, перемена расписания дождей. Кто-то при этом неизбежно лишится привычного комфорта и вступит в пору забот и тревог.
Перепады биохимической энергии чувствительны человеку, заставляют его что-то предпринимать, ведь со всем «био» он в изначальной родственной связи. Так вот, «эффект, производимый вариациями описанной энергии, открыт нами, — заявляет Гумилев, — и описан как особое свойство характера, названное нами пассионарность…» Особый пункт этого открытия заключается в том, что импульсы таинственной энергии идут путями неисповедимыми. Они порождают «непреоборимое внутренне стремление к деятельности, направленное на достижение какой-либо цели, причем она представляется данному лицу ценнее даже собственной жизни».