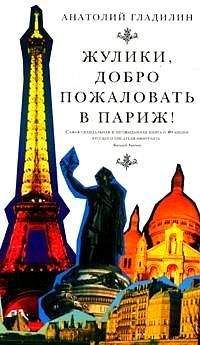Анатолий Гладилин - Жулики, добро пожаловать во Францию
…Плавный ход моего повествования прерывает свежий факт сегодняшнего дня. В провинциальном городке, где вроде нет никаких расовых проблем, молодежная банда угоняла машины. Пятнадцатилетний мальчик сказал своему отцу, что знает имена тех, кто украл у них машину. Отец, законопослушный француз, решил, что об этом надо официально заявить в полицию, и явился с сыном в участок. Там все записали, поблагодарили свидетелей, а потом вызвали в участок юных угонщиков, сообщили им, что на них поступило заявление, погрозили им пальцем и… отпустили.
Что сделали семнадцатилетние детишки? Почувствовав безнаказанность, они подкараулили парнишку и зарезали его. Причем резали долго и зверски. На трупе (теперь уже не 15-летний мальчик, а труп!) насчитали 14 колотых ран.
Сегодня об этом страшном происшествии написано во всех газетах, кричит радио и телевидение. Завтра успокоятся и забудут. Накажут ли полицейских? Нет, ибо полиция поступила политкорректно, ведь убийцы не виноваты, виноваты семья, школа, общество. Вот если бы угонщиков сразу арестовали, то пресса бы не забыла и продолжала крик. Ведь нынче, какая главная тема во французских СМИ? Плохо, месье-дам, живется преступникам во французских тюрьмах! Тюрьмы переполнены.
Некоторые факты биографии
У меня впечатление, что больше всего оплакивают распад Советского Союза не советские пенсионеры, а французские левые. Для них это крушение великой мечты о государстве равенства, братства и социальной справедливости. Спорить с французскими леваками, которые по-прежнему дают уроки политкорректности всей стране, бессмысленно. Во Франции крайне непопулярно быть правым. Все французские правые, кроме Ле Пена, смущенно называют себя либералами и втайне мечтают прославиться левыми реформами. Мне почему-то кажется, что лидер правых, Жак Ширак, так и не добился исполнения своей главной мечты. Разумеется, основного он добился, стал президентом, переизбран на второй срок. Однако, повторяю, у меня ощущение — может быть, ошибочное, что Жаку Шираку хотелось бы для полного счастья (такая розовая химера!) посидеть хотя бы несколько дней в кабинете Роберта Ю. на площади полковника Фабиана. Для справки: на площади полковника Фабиана находится ЦК Французской компартии.
Ладно, уйдем от полемики. Я прожил сорок лет в стране победившего социализма. Вот некоторые воспоминания о моих школьных годах.
Кончилась война. Я учусь в 73-й школе, в Серебряном переулке. Чтобы дойти из дома до школы мне надо пересечь Гоголевский бульвар и Арбат. Утром, чтоб сэкономить время, я иду проходными дворами. После школы стараюсь их избегать. Местные ребята поймают — побьют. В каждом переулке была своя банда. У нас почему-то все боялись ребят с Мало-Власьевского. В нашем классе абсолютное социальное равенство: все бедны, все живут в коммунальных квартирах, всем в школе на завтрак дают баранку и чай. И бесконечные драки: драки в коридорах, драки на переменках, драки после уроков в школьном дворе. Как я теперь понимаю, школа наша была относительно спокойная, то есть дрались без ножей и без еще более коварного оружия — «писок» (писка — это тонкое лезвие бритвы, которое зажимали между пальцами и «расписывали» лицо противника). А вот про Марьину Рощу рассказывали, что там огольцы приносят в школу даже пистолеты…
Постепенно в каждом классе происходило естественное разделение на две категории: тех, кто бьет, и тех, кого бьют. Били, как правило, хороших учеников, которые сидели на передних партах. Била, как правило, «камчатка» — то есть задние парты, где обосновались рослые, ленивые ребята и второгодники.
Поясняю, разжевываю для мадамов и месье: у нас не было и не могло быть никаких социальных или расовых конфликтов, никого не привозили в школу на служебной машине, а негров, китайцев, арабов и индейцев мы видели только в кино. Просто с помощью битья плохие ученики ставили отличников на место, чтоб те не зазнавалась. То есть брали своеобразный реванш за свои двойки и колы.
Не очень уверен, что месье и мадамы поняли, но продолжаю. Когда негласное разделение на «классы» было признано всеми, драки прекратились. Разве что заедут кому-нибудь, кого положено бить, по роже. Не сильно, для порядка, для плезира. Если же кто-то начинал бунтовать, то его вызывали «стыкаться». Стыкаться — драка на заднем дворе школы, при большом стечении публики, один на один, до тех пор, пока противник не упадет или не попросит пощады.
Я был исключением из правил. Я хорошо учился и был по сложению, что называется, крупным мальчиком, с широкими плечами. В классе меня почтительно называли «Слоном». Таким образом, я автоматически попадал в категорию тех, кто бьет. Боюсь вспоминать, но думаю, что, к стыду своему, пользовался этим правом. Так продолжалось до конца четвертого класса, когда я чуть было не перешел в другую весовую категорию. Резвясь на перемене, я схватил Заику (из тех, кого бьют) за плечи, пригнул его к полу, но он умудрился вырваться, да так неловко, что вдарил меня затылком в нос. От неожиданности и боли у меня слезы брызнули из глаз. Зоркий класс моментально засек этот инцидент, и уже на следующей перемене все говорили: сегодня Слон будет стыкаться с Заикой! Заика слушал это, втянув голову в плечи, он совсем не жаждал стыкаться со Слоном.
Стычка не состоялась. После уроков, вместо того, чтоб бить морду Заике, я произнес пламенную речь. Дело в том, что я был во многих случаях исключением из правил, очень много читал, до позднего вечера просиживал в читальном зале Ленинской библиотеки, где можно было достать множество интересных книг. Видимо, из этих книг я нахватался идей, чуждых советскому школьнику. Вместо того, чтобы давать отпор «агрессору», идти в бой «гремя огнем, сверкая блеском стали», и завершить все «вражьей кровью, железным ударом», я пространно рассудил о равенстве, братстве и всеобщей справедливости. Убежден, чтоб если б кто-нибудь тогда записал мою речугу, ее бы сейчас с радостью опубликовали в «Либерасьон» или в «Монд». Все, что надо, все, что доктор прописал! Однако класс встретил мои слова презрительными усмешками. Я нарушил священное табу, я отказался от права сильного! Ну кто же в здравом уме и твердой памяти отказывается от права сильного? Значит, Слон — просто трус.
Четвертый класс закончился кошмаром. Меня не решались бить, но надо мной издевались. В пятом классе кошмар усилился. Любая козявка прилюдно предлагала мне стыкаться, зная, что в ответ услышит: «Стыкаются только коровы». Я как маньяк продолжал проповедовать идеи братства, равенства и всеобщей справедливости, а надо мной смеялись и плевались. Особенно усердствовал один мой одноклассник, который благодаря насмешкам над Слоном, переходил в тяжелую весовую категорию. Я мужественно держался до зимы, и тут мои нервы не выдержали, и в ответ на очередную насмешку моего главного обидчика, я вдруг сказал: «Пойдем стыкаться!».
После уроков на заднем дворе собралась чуть ли не половина школы. Не помню, сколько продолжалась стычка, но кончилось тем, что мой обидчик закрыл лицо руками и громко заревел. Я шел через расступившийся почтительный живой коридор.
Видимо, это на всех произвело такое впечатление, что даже в 10 классе, когда многие из одноклассников переросли меня на голову, никто не предлагал мне стыкаться.
И еще один эпизод. Я учился в седьмом классе, и в это время в стране откровенно прорезался антисемитизм. Он как-то глухо тлел и в военные года, но его старались не афишировать.
Теперь со всех сторон слышалось: «Евреи не воевали, евреи спекулировали!». Не за горами был процесс евреев-убийц в белых халатах. Но мы-то ничего не знали о планах нашего мудрого Вождя и Учителя. В общем, я вдруг заметил, что в классе целенаправленно бьют Волика, еврейского мальчика в очках. Правда, он был всегда в категории тех, кого бьют, однако сейчас он оказался идеальной мишенью. На одной из перемен я как бы очнулся. После урока я вышел к доске и заявил, что запрещаю бить Волика. Класс дружно загудел: «Но ведь он жид, еврейчик!». Я сказал: «Я тоже еврей». Кто-то не поленился, подбежал к учительскому столу, раскрыл классный журнал и торжествующе прочел: «Гладилин, Анатолий Тихонович, русский». (Для сведений мадамов и месье: в классных журналах обязательно указывалась национальность). Класс радостно захохотал. Я сказал: «Это по отцу я русский, а по матери — еврей». Взял ручку, обмакнул перо в чернильницу, зачеркнул в журнале «русский», сверху написал «еврей». Класс молча встал и гуськом вышел в коридор. Никакие мои слова о равенстве и братстве между народами не произвели бы ни малейшего впечатления. Но со Слоном — тем более, что всем было известно, что я уже полгода занимаюсь боксом в «Спартаке», — никто не пожелал ссориться. Мне было позволено оставаться евреем.
Повторяю, это был нормальный класс, в обыкновенной школе страны победившего социализма. В нем учились будущие врачи, инженеры, дипломаты, а мой главный обидчик, с которым мы впоследствии подружились, стал выдающимся киносценаристом. И никто никогда не говорил нам — мол, ребята, общество перед вами виновато, потому что вы живете в коммунальных квартирах, потому что у ваших родителей нет автомашин, потому что вы можете лишь раз в неделю ходить мыться в баню, потому что вы не проводите лето на берегу Черного моря — и т. д., и т. п. Нас учили говорить: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».