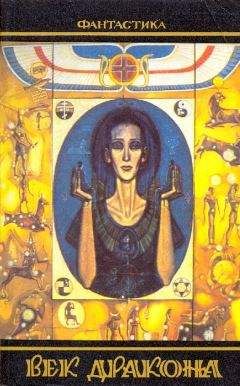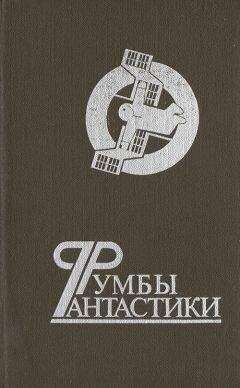Алексей Горшенин - Воображение и отображение
Из всего цикла Е. Сыча повесть "Трио", пожалуй, наиболее аллегорична и мифологична. К тому же и особо затейлива по своему стилистическому и композиционному рисунку. Сюжет повести скачет, дробится на отдельные мифологизированные истории-эпизоды либо иллюстрации к высказываниям и сентенциям персонажей. А порой и автор собственной персоной вклинивается в художественную плоть, переключая ее на себя, свои личные ассоциации (например, начало главы "Бред"), еще более усложняя восприятие и без того непростого в силу аллегорическо-философского подтекста произведения. Из всех трех повестей цикла "Трио" еще и самая у Е. Сыча экспериментаторская. Но экспериментаторство здесь не самоцельно, не просто способ самовыражения. Автор пытается отыскать все новые формы и средства, чтобы привлечь читательское внимание к важной для него мысли о вневременности и всеобщности краеугольных проблем человеческого бытия: добра и зла, любви и счастья, пастырях и паствы. Проблемы эти в повести "Трио" возникают не из искр каких-то конфликтов (в традиционном понимании конфликтов здесь вообще нет), не на крутых сюжетных поворотах, а, как Ева из ребра Адама, из существа самих персонажей, которые представляют собой некие аллегорические фигуры, несущие в себе как философский, социальный, так и нравственный смысл. Главные действующие лица повести "Трио" - непобедимый когда-то воин, а теперь бессмертный отшельник У, его сын Я - возмутитель спокойствия, старый знакомый. У - Пастырь, скитающийся по дорогам и проповедующий добро и мир. При первом знакомстве с ним. наверное, могут возникнуть некоторые прямолинейные ассоциации. Ну, скажем, если У занимается самобичеванием, осоложась в процессе побоев, то, значит, он символизирует битый-перебитый, но только крепнущий от этого русский народ, или непротивление злу. Пастырь может быть воспринят как Христос. Но я бы не спешил с такого рода параллелями. Е. Сыч не так прост. Его персонажи многозначительны, а его собственное отношение к ним как носителям определенных идей, символов, линий поведения тоже достаточно сложно, о чем говорит- хотя бы та ирония, которая сопровождает описание их жизни, их деяния, ирония, заставляющая сомневаться в избранном ими способе существования, а заодно и в эффективности моральных заповедей, если преподносятся они в чистом виде без учета реалий раздираемой противоречиями обыденной жизни. "- О, люди! - сказал на это Пастырь. - Учу их, учу - и все без толку. Хоть бы отзвук какой был! Многие лета прихожу я к ним и занимаюсь как с детьми малыми, и они каждый раз сопротивляются, ругают, казнят. Но, в конце концов, вижу - уверовали. Тогда я оставляю их и отправляюсь в другие края, нести истину, и там та же картина. Опять предстоят мне долгие труды, пока убеждаюсь, что и эти уверовали. Но грустно мое возвращение, потому что заранее знаю я: все, чему учил, уже забыто, все извращено. Одни и те же заповеди повторяю я, но каждый раз из учения выхватывают какие-то мелочи, и видно, что в них тоже запутались..." Как видим, если это и Христос, то отнюдь не библейский. Да и не стремится автор к сходству. Речь, несмотря на иронические покрывала, о трудном пути добра, о драме непонимания, подмене и смешении добра и зла. Отшельничество У тоже трагикомично. Парадокс в том, что, удалившись от людей, У без их участия в его жизни не в состоянии просуществовать (от местных крестьян получает он пищу, на большую дорогу спускается он, чтобы получить очередную порцию живительных для него побоев). Колоритен и, кстати, очень современен, очень узнаваем сын У - Я. Он из тех, кто умеет накалить обстановку. И опять, как видим, возникает разговор о власти - разговор, который не обошли в своих произведениях ни А. Шалин, ни А. Бушков, ни А. Бачило с И. Ткаченко, ни, наконец, сам Е. Сыч, заведя его в рассказе "Знаки", и, уже на новом уровне осмысления, продолжая в повести "Трио". Если в предыдущих вещах цикла Е. Сыч касается отдельных граней проблемы, то здесь возникает нечто вроде общей концепции государственной власти (не демократической, разумеется), а также образ-метафора, образ-символ сцементированного этой властью государства и его исторического пути. "Властвовать, значит, притеснять. Не убивать подряд, не награждать огульно, а притеснять, чтобы тесно было человеку со всех сторон, кроме одной. И чтобы двигаться человек мог только в одном направлении заданном", - вот смысл такой власти. То есть опять-таки строго направленное твердой рукой очередного вожака-лидера, политического пастыря движение. Отсюда и возникающий в последней главе повести образ. У и Пастырь ведут Я на гору, чтобы с высоты ее вершины показать неразумному экстремисту человечество. Их взору предстает нескончаемая, неостановимо куда-то идущая людская колонна. Присмотревшись, они видят, что авангард колонны догоняет арьергард, наступает задним на пятки, не узнавая, топчет. зазевавшихся. Все идут плотными сомкнутыми рядами, боясь ступить с колеи в сторону, поскольку вне строя, вне колеи человеку "существу общественному" - нельзя. Впереди колонны - лидер. Он движется... спиной вперед. Но это, оказывается, не странная прихоть, а суровая необходимость. "Оглядываться лидеру никак нельзя: к тем, кто пробился в первую шеренгу колонны, поворачиваться спиной не рекомендуется, они ведь и выделились именно благодаря умению бить в спину". Есть опасность и самому споткнуться упасть, быть растоптанным, но уж тут все зависит от ловкости лидера. "Находились такие лидеры, которые умели угадывать путь, и всю жизнь так и шли во главе колонны, и умирали на боевом посту спиной вперед. Но для этого необходимо, чтобы колонна двигалась медленно... И потому злейший враг любого лидера тот, кто движется быстрее остальных (как, например, Амаута из рассказа "Знаки" - А. Г). Таких шустрых стремятся немедленно устранить... Первые ряды хорошо усвоили, что если слишком быстро идти вперед, под откос вслед за лидером полетят прежде всего - они, им не удержаться под напором движущейся массы. Они тормозят, хотя и их, конечно, влечет вперед открывающийся из-за спины лидера простор... Так и идет колонна. Вперед - для всех. Назад - для лидера. По кругу - если сверху". Аллегория, полагаю, вполне ясна. С одной стороны, народ, которого несбыточными посулами счастливой жизни, как осла морковкой, лидеры увлекают за собой, а с другой - сами эти лидеры, которые вовсе не прогрессом, не благом народным озабочены, а собственным благополучием, тем, чтобы подольше удержаться у власти. Все это вместе "сверху" исторически - и образует бесконечную круговую замкнутость... Ту самую замкнутость, которую в повести "Путники" по-своему выразил И. Ткаченко. Нельзя не упомянуть еще об одной важной в идейно-художественном плане повести "Трио" аллегории, связанной с проходящей через все повествование легендой-мифом о Драконе. Собственно, и не об этом даже, а о нескольких Драконах, каждый из которых соответствует той или иной эпохи, его взрастившей, и с каждым из которых человек в разное время по-разному боролся. Одного побеждал герой-рыцарь, другого по совету мудрого правителя задабривали жертвоприношениями в лице ослушавшихся граждан, третьего "усмиряют формулой". Но все это временно. Уничтожить же навсегда никто никогда Дракона не мог. Он просто притаивается. впадает в летаргическую спячку до лучших времен, чтобы при наступлении благоприятных условий возродиться, восстать из пепла, ибо Дракон этот олицетворяет Зло мира, которое на какое-то время можно нейтрализовать, усмирить, найти компромисс, но с которым всегда надо быть бдительным и не жалеть сил, чтобы в очередной раз Дракон Зла, Дракон Жестокости и Насилия не вырвался на свободу, не наделал бы бед. С той целью, думаю, и поведал автор эту легенду. И, надо сказать, очень своевременное предупреждение всем нам, живущим в мире современного многоликого зла! "...Но воссияло все, что могло воссиять. И колонна сошла с круга и двинулась по спирали, поднимаясь с каждым витком все выше. Все ближе к вершине, где много простора и света. Где холодно и нечем дышать". Так, вроде бы оптимистически заканчивается повесть "Трио". Но советую обратить внимание на эту, портящую все благолепие, оговорку - "Где холодно и нечем дышать". Она, на мой взгляд, не случайна. Теоретически-абстрактные идеалы счастливого будущего, конечно, светлы и чисты, но и отстраненно-холодны в надмирно-недостижимой своей перспективе. Да и так ли они нужны не некоей идущей "правильным" курсом массе, а конкретному живому человеку, жаждущему хлеба, тепла и добра? Потому, верно, и спешит напомнить автор о ледяном холоде и разреженной атмосфере оторванных от живой человеческой жизни разного, рода религиозных и идеологических догматов... Впрочем, я высказываю свою точку зрения, а все, может быть, вовсе не так. И в том не будет ничего удивительного, поскольку проза Е. Сыча сама провоцирует на неоднозначное ее прочтение, вызывает на дискуссию. Она заставляет напряженно размышлять над нею, увлекает не столько коллизиями, фабулой, сколько сюжетом мысли и тем, главным образом, интересна, тем и отличима.