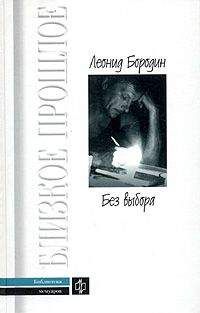Леонид Бородин - Без выбора: Автобиографическое повествование
А между тем то там, то тут натыкался я на следы «следящих» — история с Иркутским университетом кого-то, зоркосмотрящего, настораживала, и не зря. Потому что в действительности все, чем я жил, так сказать, на виду, было лишь игрой в жизнь.
Кажется, М. Горькому принадлежит открытие «зубной боли в сердце»{5}. Так вот, она, эта боль, окопалась в душе так основательно, что сомнений не было — все настоящее и стоящее еще впереди. Норильск, как обратная сторона бытия, так до конца не раскрытая и потому непонятая… От «зубной боли» я находил отвлечения не только в азарте работы, а уж азартен бывал сверх меры!
Философия как заявка и претензия на сверхмудрость, в нее заныривал, как в сон, в котором все чудно, многозначно и таинственно. Гегельянствовал! «Логику» Гегеля вычитывал, как роман с приключениями. Любимые книги того периода: помимо «Логики», «Лекции по эстетике» опять же Гегеля, «Критика чистого разума» Канта и… «Былое и думы» Герцена. Еще бы!
«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримом пространстве под горой. Так постояли мы, постояли и вдруг, обнявшись, в виду всей Москвы присягнули пожертвовать всей нашей жизнью на избранную нами борьбу!» (по памяти){6}.
Правда, слово «борьба» я никогда не любил. Казалось оно выспренним и как бы преждевременным, в том смысле, что о борьбе можно говорить только во время борьбы, коль уж так случилось. И до сих пор не люблю этого слова, ни разу не использовал его применительно к себе, потому что нынче, в конце жизни, могу ответственно утверждать, что никогда ни с кем и ни с чем не боролся. Не было ее в моей жизни — борьбы. Было сначала несовпадение, потом противостояние и формально справедливое возмездие — а это иное! Хотя бы потому, что не я боролся, а со мной боролись…
Друг мой между тем, отслужив в армии, поступил-таки в Ленинградский университет на экономический факультет, и эта его бесспорно заслуженная удача фактически определила всю мою дальнейшую жизнь. Первый же наезд в Питер, общение в небольшой компании студентов ЛГУ поначалу на уровне обыкновенного философско-литературного «трепа», а далее с осторожными проговорами социальных проблем — вот и первая трещинка в монолите моей, как до того казалось, пожизненной привязанности к Сибири. Теперь Питер — цель, мечта…
Легко, с блеском сдав кандидатский минимум по курсу истории философии в том же Иркутском университете и тем же преподавателям, что десятью годами ранее изгоняли меня из него, как овцу паршивую, в 1965 году рванул из Сибири, чувствуя себя одновременно и ренегатом, и вольноопределяющимся по самому высокому смыслу жизни. Ведь оказалось — и разве это нормально? — что в мои двадцать семь в мыслях, в планах, в мечтах начисто отсутствует идея карьеры, то есть я никем не хотел быть. Я хотел знать! И кажется, догадывался, что то знание, навстречу которому тащусь из самой середины Бурятии, от станции моего недавнего пребывания под названием Гусиное озеро, в Питер-град, где мысль — ключом, а жизнь — водопадом, знание это чревато непредставимыми последствиями, а готов ли к ним, о том думать не хотелось.
Пока в своей деревне пробавлялся гегельянством, друг мой питерский вышел на тот пласт русской культуры, который писатель Юрий Трифонов по-советски хлестко поименовал «белибердяевщиной». Прибыв в Питер, я в эту «белибердяевщину» занырнул с головой и осенью того же 1965-го уже предложил аспирантуре философского факультета ЛГУ реферат о «кантианских мотивах у раннего Бердяева». Реферат был принят, но аспирантура не состоялась — не признали мой «кандидатский» по спецпредмету, о чем жалел я не очень, поскольку в это время…
Но об этом времени надо говорить особо, поскольку оно того стоит.
* * *Во-первых, отчего мы с другом так рвались именно в Питер, а не в Москву? Из провинциальной глубинки Москва виделась прежде прочего политической столицей, берлогой марксизма, где полудремотную лукавость вождей, их помощников и помощников помощников охраняют бесчисленные стражники, на одном пространстве с которыми невозможно пребывание и выживание ничего инакового. Еще стоит сказать о том, что в каменном лике своем сохранивший строй и порядок Питер-град, в отличие от растрепанной Москвы, как бы способствовал отстраиванию духовной дисциплины, необходимой для ответственного действия. Еще. В Москве была масса памятников архитектуры. Сохранившийся Питер памятником не осознавался, но — исторической территорией, где надо было всего лишь пустить корни.
Правда, со мной-то лично все было проще. В Москве знакомых не имел, а в Питере уже заканчивал университет друг мой с времен елабужских, круг друзей которого и стал базой нашей первой «нелегалки», сколотившейся еще во времена моих наездов в Питер, в начале 1960-х. «Нелегалка» была типовой, словно срисованной с 60-х XIX века. Бесконечные ночные разговоры-споры, «съемный» домик в Шувалове, шрифт, выкраденный из типографии имени Клары Цеткин, симпатические чернила для переписки и главное — демократические ценности!
Первое, что приходит на ум человеку, догадавшемуся о несовершенстве бытия, — демократия. И даже не в смысле народовластия. Такое понимание демократии достаточно требовательно, оно понуждает к историческому поиску, к осмыслению народного опыта, провоцирует порой продуктивные ассоциации. Иначе говоря, не тормозит сам процесс политического мышления.
Демократия — даешь свободу! — нечто совсем иное. Самодостаточное. Логический принцип такого типа мышления — от противного.
Однопартийность? Даешь многопартийность!
Государственная собственность? Даешь частную!
Бесправность на митингах и собраниях? Хотим базарить!
Цензура? Долой!
Наша группа-компания пребывала на стадии изживания примитивного «демократизма», когда попала в поле зрения вездесущих органов. Срочно самораспустились. Трое непосредственно засветившихся рванули из Питера на Кавказ и какое-то время отсиживались в заброшенном ауле Дагестана. Оголодав, спустились с гор и через некоторое время тихо «просочились» в Питер. Органам было не до них. Вовсю шла разработка ревизионистской организации Хахаева-Ронкина, «зачистка» последствий дела Иосифа Бродского{7}, а тут еще и свержение Хрущева и, соответственно, перетряска самих органов.
Питер же в лице его студенческой и послестуденческой молодежи к середине 1960-х «разбузился» как никогда. «Буза» была с хитрецой. Всяк, выбрав поле крамолы, тщательно обкапывал себя рвом аполитичности. Слова социализм, коммунизм, советская власть — не употреблялись. Говорили — структура!
Образцы: «Меня структура не интересует!» — сверхосторожная позиция. «Я на структуру не работаю!» — позиция сверхдерзкая.
Математики дерзили математической логикой, лингвисты — структуральной лингвистикой, экономисты — проблемой скрытого рынка в безрыночной структуре, философы-позитивисты — кибернетикой… Еще бы! Кибернетика объявляла сущностью вещей их организацию! Формулировки Норберта Винера{8} произносились с придыханием.
Была даже «космическая» ересь, опиравшаяся на теорию академика Козырева, в то время директора Пулковской обсерватории. Опытно обнаружив «четвертое измерение», Козырев будто бы открывал возможность решения единственно сущностной проблемы человечества — иммортализма, то есть бессмертия. Имморталисты жаждали видеть во всем мире одно государство, одну партию, одного вождя, чтобы все экономические и энергетические резервы бросить на космические исследования и посредством эйнштейновского «парадокса времени» достичь бессмертия.
Если это и был бред, то немногим больший прочих, потому что душа не терпит пустоты. Ни на мгновение!
Великий суррогат веры — социализм — истекал из душ по каплям. Капли ничтожных суррогатов немедля восполняли истечение.
Но если социализм и изживался, то не изживалась вдохновенность, с каковой он вошел в мир и в души людские. Потому тогда, в шестидесятых, не наблюдалось того душевного маразма, столь характерного для времен нынешних. Напротив, псевдообновление душевно-духовных объемов сопровождалось ярким всплеском энтузиазма, что, собственно, и получило впоследствии название «шестидесятничества», это о нем, об энтузиазме и не более того, тоска у тех, кому сегодня за шестьдесят. Тоска объяснимая, потому что подлинного обновления не состоялось по причине смертоносности травмы, нанесенной идеологией интернационализма в подлинном, то есть марксистском, значении этого слова.
Но жажда обновления, безусловно, была. «…Захотелось дерзостной новизны на свете. Захотелось врезаться в дело, как ракета. Захотелось дерзости мысли, звука, цвета… Чтобы нас насытили верой и доверием…» (С. Кирсанов — по памяти.)