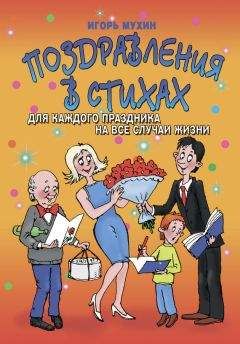Игорь Северянин - Том 5. Публицистика. Письма
Но и гонорар-то платили далеко не по заслугам, ибо —
Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало,
Хотя бы глупым называла
За неотвязность нищеты
Меня гораздо чаще ты.
Кто эта «ты» — подруга или родина? Первая едва ли бросила бы подобный упрек любимому; она была для этого слишком умной и деликатной женщиной, да и вообще, нищета — понятие относительное. По тогдашним условиям, Сологуба можно было счесть, пожалуй, богатым человеком. Вот родина скорее могла бы его укорить, сама давая крохи, что он не имеет роскошных вилл в духе — некоторым образом близкого ему — Габриэле Д'Аннунцио…
Недаром поэт горько сетует в своем триолете:
В иных веках, в иной отчизне,
О, если б столько людям я
Дал чародейного питья!
В иных веках, в иной отчизне
Моей трудолюбивой жизни
Дивился б строгий судия.
В иных веках, в иной отчизне
Как нежно славим был бы я!
Но не только в России, где продажная критико-кретинская бездарь, — классическая свинья в апельсинах, — всячески поносила могущественного своего же русского поэта, и вместо того, чтобы гордиться им, глумилась по своему хамскому обыкновению.
И поэт презрительно-спокойно заявлял:
Звенела кованая медь,
Мой щит, холодное презренье,
И на щите девиз: Терпенье.
…И зазвенит она и впредь
В ответ на всякое гоненье.
И добавлял, обращаясь к печали:.
Так пой же, пой, моя печаль,
Как жизнь меня тоскою нежит.
Моя душа тверда, как сталь,
Она звенит, блестит и режет.
И, чувствуя, что в сердце своем носит солнце, страстно вопрошал:
Солнце, которому больно!
Что за нелепая ложь!
Где ты на небе найдешь
Солнце, которому больно?
И глаголил насмешливо-примирительно:
Благослови свиные хари,
Шипенье змей, укусы блох,—
Добру и Злу создатель — Бог.
…Прости устройство всякой твари.
И — подвижнически:
В безумно-осмеянной жизни
Власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить.
И — в мудрой гордости:
Да будут вместо жизни книги
Наградою железных дней.
…Покорен я в железном иге.
Не самоубийством же было, в самом деле, кончать из-за «свиных харь» критических тварей:
Ты гори, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка,—
Я тебя гасить не стану…
Пленительная лесистая дорога из Тойлы в Иеве влекла его к себе, и часто, в полном одиночестве, он бродил по ней:
Что может быть лучше дороги лесной
В полуденной, нежно-спасающей мгле!
Свой дух притаился здесь в каждом стволе.
И, созерцая природу, мыслил:
Здесь учиться людям надо, как любить и петь.
Петь, как птичка, потому что —
Сила звонкой песни сотрясает тело птички,
Потому что песня — чарованье переклички,
В трепетаньи звуков воплощенная мечта.
Тем людям учиться надо у птички, у одного из которых спросил:
Чем же ты живешь?
Возвращался он с прогулки поздно, когда уж
Огонек в лесной избушке
За деревьями мелькнул.
И —
Долина пьет полночный холод
Тоской синеющих высот.
Иногда он взывал к полю и небу:
Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши,
Раскройте обаянья ваши.
Он умел ценить жизнь:
Тревожный праздник новоселья
Пусть нам дарует каждый день.
И укорял, жизнью не умевших пользоваться:
Рая не знаем, сгорая:
Радость не наша игра…
А радость всегда вокруг нас. Разве же, например, не радость, когда —
Луна взошла, и дол вздохнул,
Молитвой рос в шатре тяжелом…
В этот час —
…Сад расцвел
Дыханьем сладким матиол.
Но больше всего радовала и утешала утомленного, плохо оцененного сородичами Федора Кузмича его, Данту подобная, великая любовь к Анастасии Николаевне:
В моем бессилии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже.
Отвергнут я, но ты люби меня.
И —
Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.
Он выше суетных, земных, всегдашних дел.
Ты только для меня. Торжественно намечен
В веках наш яркий путь, и светел наш удел.
Так коротал в Тойле поэт свои дни:
Коротаю дни я как-нибудь…
И не клял скромной жизни, малым довольный:
Жизнь влача печальную,
Вовсе не тужу.
У окошка вечером
Тихо посижу,
Проходящим девушкам
Сказку расскажу.
Сказку своей счастливой в любви, но не в славе жизни… Бедные девушки рыбачьей деревушки, все поголовно владеющие русским языком! Вы и не знали, в чудесной застенчивости своей, какой радости и чести вы лишились — послушать сказку из безгрешных, даже во всех человеческих грехах своих, уст поэта!
3Я задумываюсь. Мне глубоко грустно. Перечитанные стихи говорят о жизни, к которой сам я был близко причастен. Она не вернется, милая. Анастасия Николаевна и Федор Кузмич умерли. Они уже умерли. Их нет на земле. Но дача, где они жили, стоит на том же месте, но вместо поэта живет в ней… урядник. Такова ирония жизни. Почти ежедневно по вечерам, проходя мимо, всегда вспоминаю незаменимых людей. Так вот и кажется, что с балкона послышится ее голос:
— Не мешало бы чего-нибудь подкушать, Малим, как вы думаете?
И его ответ:
— Пожалуй, Малим, — я слегка проголодался.
— Ну вот и отлично. Елена, давайте ужинать.
Страшно шикарно, страшно шикарно, — слышится мне ее смех…
1927
Тойла
Умер в декабре
(Памяти Ф. Сологуба)
Во вчерашних газетах («Сегодня» от 5 декабря) было помещено срочное сообщение из Петербурга о серьезной болезни Федора Сологуба.
Я сказал жене:
— Декабрьская его болезнь опаснее весенней. Она может оказаться смертельной. Ты помнишь его триолет, написанный 4 ноября 1913 г. в Петербурге? — И достав с книжной полки «Очарования земли», я прочел:
Каждый год я болен в декабре.
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить.
И склоняюсь к смерти в декабре,—
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.
В сегодняшних газетах (от 6 декабря) уже значится:
Сологуб умер 5 декабря.
И он, и я — мы были оба правы… И не первый раз за эти четырнадцать лет я вспомнил эти стихи: каждый раз, когда я перечитывал — а это случалось часто — «Очарования земли», меня жутко тревожило его пророчество.
* * *Итак, Сологуба, самого близкого мне после Фофанова из своих современников, я больше никогда не увижу. По крайней мере — «здесь, у вас на земле…» То, чего я так боялся и вседневно ожидал, свершилось. Недаром еще в 1919 г. я спрашивал себя в своем «Менестреле»:
…Ужель я больше не увижу
Родного Федор Кузмича?
Лицо порывно не приближу
К его лицу, любовь шепча?
Тогда к чему ж моя надежда
На встречу после тяжких лет?
Истлей, последняя одежда!
Ты, ветер, замети мой след!
В России тысячи знакомых,
Но мало близких. Тем больней,
Когда они погибли в громах
И молниях проклятых дней…
Никогда не увижу, — ничего не узнаю. И мог бы однажды узнать кое-что, да, видимо, не в судьбе моей было узнать.
Дело в том, что осенью 1921 г. эстонский поэт Генрик Виснапу вез мне из Петербурга письмо от Сологуба, но на границе письмо это конфисковали, — и что было в нем? Звал ли Федор Кузмич меня в Россию, мечтал ли сам из нее выбраться — вечный мрак, и жуть в этом мраке. И уж это до последнего часа моего. А письмо его было ответом на мое, через того же Виснапу переданное, в котором я звал его к себе, предлагая хлопотать о визе. Я знал, как он любит меня: «Милому Игорю Васильевичу Северянину неизменно всем сердцем любящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 1913 г.» — гласит автограф на «Жемчужных светилах». Я знал, как он любит Тойлу, где провел два лета перед самой войной и где даже домик приобрести намеревался. Я знал, какого высокого мнения был он вообще об эстонцах — мирных, трудолюбивых, врожденно-интеллигентных. Я знал, сколько очаровательных стихов воспринял он в Тойле. И, наконец, знал я, что лучше всего, всего вернее может отдохнуть он, усталый, именно в нашей приморской прекрасной деревушке, где он был так полно, так насыщенно счастлив когда-то с Анаст<асией>