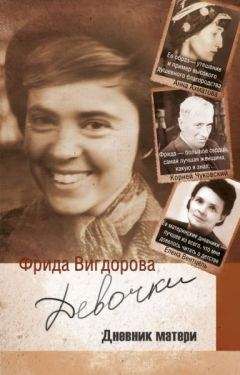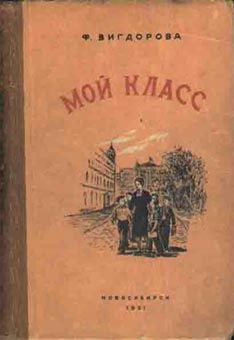Фрида Вигдорова - Кем вы ему приходитесь?
Много хороших книг на свете, книг-учителей, книг, которые пробуждают мысль, переворачивают ум и сердце. Но почему строчка, слово из письма действует так сильно, так берет в плен, так глубоко проникает в душу? Ведь письмо не книга, не повесть. Страничка, иногда несколько слов. В чем секрет иных писем, написанных подчас небрежно, наспех?
Когда-то Герцен писал: «Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям и которых больше нет…
Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают другое лето, его зной, его теплые ночи и то, что оно ушло на веки веков; по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим».
Каково бы ни было чувство, вызвавшее переписку, — дружба, любовь, гнев, — в письмах оно выражается без румян, без прикрас, в письмах бывает закреплено и помечено — пусть наскоро — самое глубокое и заветное, что не всегда и скажется даже в разговоре один на один.
Да, письма сближают нас с писавшим, с помощью писем прошлое становится живым и близким. И живыми становятся для нас те, кто их писал. Лучший пример тому письма самого Герцена. Эти письма — Н. А. Захарьиной ли, Огареву ли, детям ли — являют собой исповедь, где любовь, гнев, страдание предстают перед читателем в совершенной искренности.
У нас любой школьник, приводя пример дружбы великих людей, непременно назовет Герцена и Огарева, но чаще всего оказывается, что знает он только о клятве на Воробьевых горах. А давно, давно бы следовало издать для юношества переписку Герцена и Огарева, потому что, думается мне, нигде они не встают так во весь рост, как в этих письмах.
Не знаю, есть ли металлы, которые не плавятся ни при какой температуре, но были, есть и всегда будут люди, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не изменят себе, не перестанут быть самими собой.
В 1852 году умерла жена Герцена Наталья Александровна. Умерла, оставив троих детей — Сашу, Тату и Олю. Старшему, Саше, было двенадцать лет, младшей, Оле — два года. Перед смертью, предчувствуя, что скоро уйдет из жизни, Наталья Александровна не раз говорила, что хотела бы доверить воспитание детей Наталье Алексеевне Тучковой. Жена Герцена любила ее, называла ее «моя Консуэло» («консуэло» — по-итальянски «утешение») и верила, что только Наталья Алексеевна сумеет заменить мать осиротевшим детям.
Через несколько лет после смерти Натальи Александровны в Англию, где жил тогда Герцен с детьми, приехал Огарев с женой Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой.
И тут произошли события, которых никто предвидеть не мог: Наталья Алексеевна полюбила Герцена и вскоре стала его женой.
Огарев был горячо привязан к Наталье Алексеевне, и все происшедшее было для него тяжким ударом. Казалось бы, между Огаревым и Герценом должна возникнуть непроходимая пропасть, неодолимое препятствие. Но, читая их письма той поры, понимаешь: всегда, в любых обстоятельствах оставаться людьми — во власти самих людей.
Надежды, которые возлагала покойная Наталья Александровна на свою молодую подругу, не оправдались. Наталья Алексеевна искренне хотела посвятить себя воспитанию детей, но она не сумела их полюбить, а без любви нет разумения, нет понимания. Она не смогла заменить им мать, она была мачехой — несправедливой, подозрительной, сварливой.
Когда отношения Герцена и Натальи Алексеевны зашли в тупик («Какое глубокое и плоское несчастье!» — восклицает Герцен в письме Огареву), когда семья была разрушена, разобщена, когда и дети Герцена и сам Герцен были отравлены ядом постоянных ссор с Натальей Алексеевной, ее подозрениями и упреками, Огарев говорил в одном из своих писем Герцену. «Ты иногда мне намекал, что ты внес в мою жизнь горечь. Это неправда! Я, я в твою жизнь внес новую горечь. Я виноват».
Письма Огарева к Наталье Алексеевне, письма, в которых он напоминает ей об их общей ответственности за детей Герцена, об их долге перед памятью умершей Натальи Александровны Герцен, — это письма, в которых воплощены честь и высота человеческой души.
Могут сказать: зачем же приводить примеры из семейной жизни, из семейных неурядиц, когда и без того известно, что Герцен и Огарев рыцари без страха и упрека? Это верно. Но ведь верно и то, что иной раз оставаться крупным человеком легче в крупном, чем в мелком, повседневном. И другое: нелепо и непростительно область дружеских или семейных отношений низводить до степени неважных, несущественных.
Когда вы читаете о жизни великих людей, вы хотите знать обо всем: не только о великих свершениях, но и о поисках, находках, ошибках. Об ошибках — не для того, чтобы злорадно сказать: э, да и они как все! — а для того, чтобы понять, как человек становится Человеком, как он духовно крепнет, как он остается самим собой и в крупном и в повседневном, в горе и в счастье, и в минуты «грозно-торжественные» и в ежедневной суете.
Никакие уроки морали, никакие самые высокие наставления не скажут нам того, что найдем мы в простых и глубоко человечных письмах Ивана Петровича Павлова. Многие наизусть помнят его предсмертное письмо. Но с тем Павловым, который предстает в этих письмах, мы незнакомы. А жаль!
Не так давно в «Новом мире» был воспроизведен журнал под названием «Попался». Журнал этот Павлов вел для девушки, которую полюбил. Он был очень интересен, этот журнал, но показался мне рационалистическим, пожалуй, даже немного резонерским. Что-то сковывало писавшего, что-то мешало ему писать просто и непосредственно. А вот передо мной другие его письма, которые Павлов писал той же девушке, но когда она уже стала его невестой.
Застенчивость, неуверенность в ответном чувстве рассеялись, человек освободился от всего, что его стесняло, сковывало прежде. Он и теперь говорит иногда о том же, что в журнале «Попался», но просто, открыто, освобождение, не резонерствуя, а как бы думая вслух.
Мы немало знаем о Павлове — ученом, о его прямоте, о его требовательности к себе и другим. Но как важно, как интересно увидеть, насколько он всегда и во всем остается самим собой. И если в юности учатся думать, то редкая книга даст лучший толчок мысли, чем эти письма. Главная мелодия в них: «Я плох, но я хочу быть лучше». И еще: жажда доверия, равенства в любви. Жажда совершенной правды всегда, во всем.
«Дорогая Сара, — пишет Иван Петрович, — может, тебе очень не по сердцу вечные мои промахи и следующие за ними раскаяние, просьба о прощении. Может, скажешь: «уж если не можешь обойтись без спотыка, по крайней мере не канючил бы». Когда же это кончится? Я плох и хочу быть лучше — и вижу к этому теперь средство, случай в нашей любви…
Вчера с Сережей я был на рубинштейновском концерте. И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки?.. Я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказывали мне: «нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своею помощью, — правда». И почувствовал я к этой правде любовь страшную — и вдруг сделался силен, как будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни».
И чуть позже в другом письме: «Людям естественно сбиваться, на то и люди. Лишь бы поднялись, воротились на истинный путь. А я верю в это. Что там жизнь ни делала со мной, а я все-таки всей душой за правду, за разум, за труд, за любовь».
И опять, и снова: «Мы опять один человек, твоя радость — моя радость, твое горе — мое горе. Опять между нами светло, хорошо. Ведь так, мое утешение? Это ведь верно? Мы всегда будем говорить правду друг другу? Мы оба искренне признали над собой одного судью — правду!..
Мне не передать в письме то, что чувствуется, думается об этом предмете. Мне не передать тебе, как велика надо мной сила правды и как бесконечно законно каждое твое справедливое желание, требование, чувство… перед каким-либо посягательством с моей стороны. Мне не сказать тебе, как беспокойно начинает биться сердце при одной мысли, что мелочные столкновения могут иметь место в нашей общей жизни».
За всю историю рода человеческого много было сказано слов любви. Как будто уже не осталось несказанных, таких, которые заново задели бы душу, — и, однако, это неверно, потому что у простого, от сердца идущего слова есть свое волшебство, своя власть, и старое, знакомое, оно звучит, как открытие, как сказанное впервые. И письма, в которых Павлов говорит, что надо беречь любовь, беречь от мелочей, от второстепенного, от того, что Герцен называет «плоским несчастьем», написаны с такой взволнованностью, которая никого не оставит равнодушным.