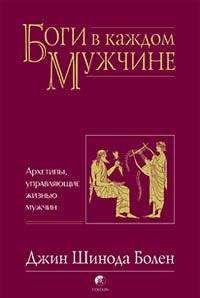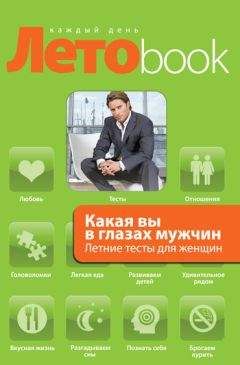Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник)
Да, конечно, это преувеличенное, вечно инкриминируемое Ахматовой переживание собственной любовной драмы как события мирового масштаба, но это опять-таки лишь частный случай благородной и плодотворной мировоззренченской установки, которая сформировалась у глубоко религиозной Ахматовой под прямым влиянием столь любимого ею Ветхого Завета (к ветхозаветным темам она обращается чаще, чем к евангельским, – может быть, потому, что в ее мире нет искупления и прощения, да и в биографии мало просветов). За ЧАСТНЫЙ грех расплачивается мир; одного праведника бывает довольно, чтобы спасти город, – но одного грешника довольно, чтобы проклясть все его потомство. Страшное несоответствие между масштабом греха и наказания Ахматова чувствует сама («Мне подменили жизнь»), но сомнений в справедливости кары у нее не возникает ни на минуту: карнавал Серебряного века заслужил свою гибель и не был бы так прекрасен при всей греховности, если бы не предчувствовал ее.
Главная же беда и вина всех танцующих в этом карнавале – масочность, фальшь происходящего, она-то и придает ему явственно бредовый оттенок: «Но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня». Алексей Павловский вполне прав, называя «Поэму без героя» поэмой совести; в той же мере она – поэма расплаты, предвоенной тревоги. Маскарадная тема приводит к еще одной параллели: собственно, она вводится в связи с мейерхольдовским «Маскарадом», долгожданная премьера которого после шести лет подготовки состоялась 25 февраля 1917 года и стала самым дорогим театральным событием в России. Мейерхольд возобновлял «Маскарад» еще дважды – в редакции 1933 и 1938 годов; собственное его возвращение к теме «Маскарада» тоже значимо – последний спектакль возобновленной версии 1938 года состоялся уже после его расстрела, 2 июля 1941 года, в городе, обреченном на блокаду, где, впрочем, почти никто об этом не подозревал.
Маскарад появляется и в «Вальсе с чертовщиной», там танец вроде бы жизнерадостен, но подспудно зловещ; Пастернак так ускоряет темп, так нагнетает ритм, так учащает биение внутренней рифмы, что с какого-то момента карусель ряженых – ср. «С детства ряженых я боялась» у Ахматовой – перестает быть веселой и намекает на грозную развязку праздника. В России долгих праздников не бывает.
Процитируем «Вальс» целиком – даже у Пастернака мало столь безупречных стихотворений (а он и любил, думается, нарочно не доделать или даже испортить слишком совершенную вещь, чтобы она непосредственнее звучала, – но здесь этого соблазна нет: идеальное совпадение замысла и реализации).
Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочною скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили,
Масок и ряженых движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.
Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей.
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.
Все разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.
Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занапастишь.
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настежь.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.
Это вещь амбивалентная, что и задумывалось: отсюда «зловещая сладкая тайга», хотя откуда бы взяться чему-то зловещему в детском празднике? «Рвут нарасхват», «душно от лакомств» – неблагополучие чувствуется уже на уровне лексики; «искрится сало, брызжет смола» – картина не столько рождественского празднества или фейерверка, сколько пожара, чуть ли не военного. Но самая зловещая примета – почти физически ощутимое ускорение: от медленного, только разгоняющегося, произносимого с придыханием и чуть не по слогам «Ка-жет-ся, ви-жу в за-мочную сква-жи-ну…» – до стремительного, с рифмованными полустишиями: «Реянье блузок! Пенье дверей! Рев карапузов! Смех матерей!» – и уж совсем вприпрыжку: «Финики! Книги! Иглы! Нуга! Иглы! Ковриги! Скачки! Бега!» Но карнавал, как ни странно, не разрешается ничем, не сменяется никаким покоем: напротив, то, что после него настало, как-то совсем не похоже на обещание счастья. «Улицы зимней синий испуг» – и тут же «время пред третьими петухами», когда вся нечисть в последнюю минуту резвится особенно нагло; особенно же красноречив финал. «Дух сквозняка, задувающий пламя» – это ведь то самое, что и настает после карнавала: «пламя» у Пастернака, да и вообще в русской лирической традиции, – символ света, надежды, сердечного жара, у него куда более положительные коннотации, чем у «огня»; и вот «дух сквозняка» по одной расправляется со свечками, и от всего великолепия остался настырно повторяющийся «Фук. Фук». Танцы кончились, пошли будни – и какие будни: ничего живого! Я уж не говорю о том, что само слово «фук» отсылает к напрасной трате: профукали все. Шашка, взятая за «фук», берется из-за зевка, по недомыслию партнера. Все кончилось полным фуком, а ведь как плясало и неслось, угощало и соблазняло! Собственно, финал русского Серебряного века был точно таким же.
Почему Ахматовой и Пастернаку одновременно явились эти два карнавала? А. Жолковский резонно предполагает, что одним из толчков могло стать официальное возвращение новогоднего празднества, реабилитация елки, но это ведь случилось еще в 1934 году. Правда, настоящие детские праздники – это уже конец тридцатых, когда бурно формировалась советская новогодняя культура. Но, думается, дело не только в чисто внешнем толчке – тем более что ни на каких писательских банкетах и детских праздниках Ахматова в это время не бывала, – а в сходном ощущении карнавала, столь характерном для зрелой сталинской эпохи, когда – как легко судить хотя бы по «Мастеру и Маргарите» – одновременно с повальными ночными арестами вся столичная богема гуляла на беспрерывных банкетах. Это сочетание террора и праздника, террора и театра иногда буквализовывалось – во время обыска у Мандельштама в 1934 году у Кирсанова за стеной гуляли гости, звучала гавайская гитара. Вся вторая половина двадцатых – череда беспрерывных празднеств и банкетов, лихорадочный разврат, обжорство, пьянки, кумиры пролетариата старательно изображают богему, писатели-орденоносцы влюбляются в орденоносных актрис, и все это на грани смерти, в почти безумной остроте. Этот дух страшного карнавала и неизбежно грядущего возмездия отразился только в трех текстах: в «Мастере», где бал Воланда весьма точно копирует сталинские приемы, в «ПБГ», где предвоенные рыбьи пляски вызывают воспоминания о тринадцатом годе, и в «Вальсе с чертовщиной» Пастернака, где чертовщина, по счастью, не узнала себя.
Вообще в России редкий бал обходится без инфернальной подоплеки – свидетельствует о том не только бал Сатаны, но и «Бал» Боратынского, и «Маскарад» Лермонтова, и, само собой, провинциальный бал у Лариных в «Евгении Онегине» – после которого ни за что погиб Ленский (балу этому предшествовал страшный сон Татьяны с картиной демонского веселья); немудрено, что перед главной катастрофой XX века Пастернаку и Ахматовой, почти не общавшимся в конце тридцатых, одновременно послышался бешеный вальс. Только у Ахматовой вальсирующие сами виноваты, а Пастернак, вечный «мальчик у Христа на елке», никого ни в чем не винит. Он даже верит, что все кончится хорошо, – «Порядок творенья обманчив, // Как сказка с хорошим концом», – но это уже в другом стихотворении цикла.
Эта статья – не столько литературоведческий анализ, сколько именно прогноз (2013). К счастью, тогда этого никто не заметил. А на следующий год все сбылось, хотя и с поправкой на масштаб. Есть шанс, что сбудется и без поправки. Но думать об этом не хочется.
Синдром
Сейчас все будет очень серьезно, я пишу этот текст тридцать два года – точнее, столько думаю над ним. В 1984 году я был членом совета «Ровесников» – довольно таинственной организации, откуда выходили непростые люди: Миша Кожухов, Евгения Альбац, Елена Исаева, Владимир Вишневский, Антон Дрель, Андрей Шторх – красота, кто понимает. Это было что-то вроде описанной Сэлинджером передачи «Wise Child» – «Мудрое дитя», – в которой выступала вся семейка Глассов. В детской редакции радио, ныне упраздненной (в нашей комнате сидит теперь бухгалтерия телеканала «Культура», а я до сих пор помню тот вид из окна, и он для меня знак абсолютного счастья), была программа «Ровесники» – для старшеклассников. Она отвечала на вопросы о смысле жизни, делала интервью с замечательными людьми и рассказывала о наших продвинутых сверстниках, чего-то в чем-то добившихся. Там много было советского наива, но передача была не самоцелью – как фильм Ильи Хржановского «Дау» давно уже никому не важен, а важен процесс его создания, строительство гигантского острова советской жизни в Харькове, вовлечение тысяч людей в интересную и с виду совершенно абсурдную деятельность. Вот у нас был совет «Ровесников», мы собирались по средам, обсуждали интересные книжки, фильмы или проблемы (после чего эти обсуждения ставились в эфир), и все сюжеты тоже делались руками школьников: им давали гигантский магнитофон «Репортер» с микрофоном-удочкой, и вперед. Там я заработал свои первые деньги, на которые купил себе прекрасный гэдээровский выпускной костюм песочного цвета, он налезал на меня до девяносто шестого года. Я очень хотел, чтобы сын в нем сходил на выпускной, но даже мои тогдашние размеры оказались ему широки.