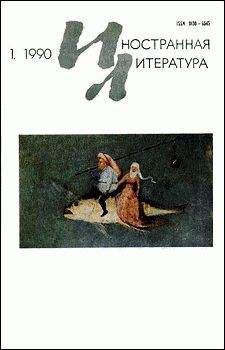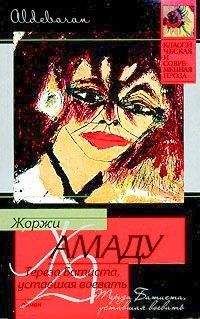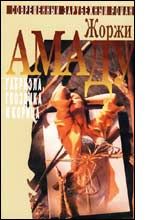Виталий Шенталинский - Рабы свободы: Документальные повести
Далее в показаниях Бабель продолжает свою исповедь:
О чем я говорил литераторам и кинематографистам, обращавшимся ко мне за помощью и советом? Говорил о так называемой теории «искренности», о необходимости идти по пути углубления творческой индивидуальности, независимо от того, нужна ли такая индивидуальность обществу или нет. «Книга есть мир, видимый через человека», — и чем неограниченнее, чем полнее раскрывается в ней человек, каков бы он ни был, тем выше художественные достоинства его произведений. Ни моральные, ни общественные соображения не должны стоять на пути к раскрытию человека и его стиля; если ты порочен по существу — то совершенствуй в себе порок, доводи его до степени искусства; противодействие общества, читателей должны толкать тебя на еще более упорную защиту твоих позиций, но не на изменение основных методов твоей работы…
В книгах Бабеля мы мало найдем теоретических рассуждений об искусстве, о роли писателя — он практик, и в слове он мыслил образно, как поэт. Тем важнее для нас это подневольное изложение своего творческого кредо, следствию вовсе не нужное. Может быть, и излагал его потому, что предчувствовал, — другого случая не будет, с тайным дальним расчетом: вдруг когда-нибудь его записи прочтет и другой читатель, не только следователи? Но вспоминал: это не эссе о собственном творчестве, а собственноручные показания. И голос его менялся:
На словах советская тематика приветствовалась, на деле — компрометировалась; люди искусства, тяготевшие к изображению живой действительности, запугивались, размагничивались внешне убедительными доводами о стандартности их творчества, о служебном его характере, о том, что читатель приемлет их по необходимости, но с внутренним отрицанием… Болезненные противоречия, крушение личное, крушение творческое, создание атмосферы неудовлетворенности и недовольства — вот к чему приводили эти «теории».
Бабель переходит к своему ближайшему окружению, к своим друзьям. И перед нами в смещенном, искаженном, как на полотне сюрреалиста, ракурсе, в мрачном, как лубянская камера, свете проплывает панорама художественной жизни страны, обреченные, беззащитные лица ее самых значительных участников:
Беседы с Эйзенштейном 36–37-го годов — основной их стержень был в том, что Эйзенштейну, склонному к мистике и трюкачеству, к голому формализму, нужно найти такое содержание, при котором отрицательные эти качества не ослаблялись бы, а подчеркивались. Упорно, с потерей времени и значительных средств продолжалась работа над порочным «Бежиным лугом», где смерть пионера Павлика Морозова принимала характер религиозного, мистического, с католической пышностью поставленного действия.
Такой же характер носили беседы с Михоэлсом, правдами и неправдами добивавшимся разрешения на постановку снятой с репертуара моей пьесы «Закат», беседы с одним из руководителей Театра имени Вахтангова — Горюновым, ратовавшим за введение в репертуар театра запрещенной Главреперткомом пьесы моей «Мария». Усилия этих работников провести на сцену мои пьесы шли рука об руку с пропагандой нашей против текущего советского репертуара, против сторонников этого репертуара, против нового курса МХАТа. Такие постановки, как «Враги», «Земля», «Достигаев», объявлялись неудачами театра, неудачами закономерными и неизбежными; внимание, которым окружен был лучший театр страны, квалифицировалось как создание тепличной атмосферы, притупившей яркость и новизну, которыми прежде отличались работы МХАТа… Любовь наша к народу была бумажной и теоретической, заинтересованность в его судьбах — эстетической категорией, корней в этом народе не было никаких, отсюда — отчаяние и нигилизм, которые мы распространяли.
Одним из проповедников этого отчаяния был Олеша, мой земляк, человек, с которым я связан двадцать лет. Он носил себя, как живую декларацию обид, наносимых «искусству» Советской властью; талантливый человек — он декларировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров — людей с язвинкой, дешевых скептиков, ресторанных неудачников. Картина его — «Строгий юноша», — обошедшаяся Киевской киностудии в несколько миллионов рублей, оказалась невообразимым пасквилем на комсомол, экрана не увидела, и затраченные миллионы пришлось списать в расход; другая его картина — «Болотные солдаты» — была принята публикой холодно, почти враждебно; прием этот еще более озлобил его, из многолетних попыток написать пьесу (разрекламированную еще до написания) ничего не вышло, цепь этих неудач — закономерных и неизбежных — поставила его в ряды, людей жалующихся, озлобленных, обиженных… Само собой разумеется, что ни я, ни Олеша, ни Эйзенштейн 1936–1937 годов — не действовали в безвоздушном пространстве, мы чувствовали негласное, но явное для нас сочувствие многих и многих людей искусства — Валерии Герасимовой, Шкловского, Пастернака, Бор. Левина, Соболева и многих других; сочувствие дорого им обошлось, так как и на их творчество легла печать внутреннего смятения и бессилия…
Бабель оговаривает своих друзей… Предвижу возглас: «Закладывает!»
Нам ли, не пережившим лубянских пыток, из своего безопасного далека судить и миловать? Под следствием человека доводили до такого состояния, когда он переставал быть человеком и уже не мог отвечать за свои слова. «Закладывали» все, почти все, заложили бы, не сомневаюсь, и те, кто сегодня берет на себя роль Божьего суда.
К физическим мукам узников добавлялись и душевные терзания, приводившие к психической болезни на грани помешательства. Вот еще одно свидетельство Всеволода Мейерхольда, из его письма Молотову:
…Тому, что я не выдержал, потеряв всякую власть над собой, находясь в состоянии затуманенного, притупленного сознания, способствовало еще одно страшное обстоятельство: сразу же после ареста (20-VI-39) меня ввергла в величайшую депрессию власть надо мной навязчивой идеи «значит, так надо!». Правительству показалось, — стал я себя убеждать, — что за те мои грехи, о которых было сказано с трибуны 1-ой сессии Верховного Совета, недостаточна для меня назначенная мне кара… и я должен претерпеть еще одну кару, ту, которая вот сейчас на меня наложена органами НКВД. «Значит, так надо!» — твердил я себе, и «я» мое раскололось на два лица. Первое стало искать «преступления» второго, а когда оно их не находило, оно стало их выдумывать. Следователь явился хорошим, опытным помощником в этом деле, и мы стали сочинять вместе, в тесном союзе. Когда моя фантазия истощалась, следователи спаривались… и препарировали протоколы (некоторые переписывались по 3, по 4 раза)…
Сознание было по-прежнему притуплено и затуманено, ибо надо мной повис дамоклов меч: следователь все время твердил, угрожая: «Не будешь писать (то есть — сочинять, значит?!), будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного, искромсанного тела». И я все подписывал…
Ложные показания на себя и других вырывались у доведенного до последней черты страдания человека. Но случалось, подследственный предупреждал насилие, зная, что не перенесет его. Один узник Лубянки, корреспондент Би-би-си, со свойственной его нации гордостью заявил:
— Я скажу все, что вы хотите. Я как англичанин не могу допустить, чтобы меня били по лицу…
Во всех показаниях Бабеля, искаженных сверхзадачей следствия, нет ни одного факта преступной деятельности его друзей. Но и такой оговор будет невыносимо мучить его до последнего часа.
В конце своих записей Бабель, балансируя между искренностью и своей ложной ролью, снова обращается к себе:
Множество взоров было обращено на меня; от меня ждали, после длительного молчания, крупных, ярких, жизнеутверждающих вещей, молчание мое становилось козырем для антисоветски настроенных литературных кругов, я же за все последние годы дал несколько небольших рассказов («Ди Грассо», «Поцелуй», «Суд», «Ступак»), незначительных по содержанию, бесконечно удаленных от интересов социалистической стройки, раздражавших и обескураживавших читательские массы. Должен сказать, что в этот период мною подготовлялись и крупные вещи (черновики их найдены в моих бумагах), но работа эта шла со скрипом, я болезненно ощущал лживость ее, противоречие между неизменившейся, отвлеченно «гуманистической» моей точкой зрения и тем, чего ждала советская читательская масса, — произведений о новом человеке, книг, художественно объясняющих настоящее и устремленных в будущее.
Оправдывались слова А. М. Горького — множество раз говорил он мне их — о тупике, который ждет меня. Множество усилий было потрачено Горьким на то, чтобы по-настоящему вернуть меня советской литературе, много душевного внимания и страстной заботы о советском искусстве проявлено было им во время этих разговоров; велика была скорбь его от сознания, что я, один из учеников его, пренебрегаю мудрым, предостерегающим его голосом, обманываю надежды (может быть, преувеличенные), возложенные им на меня. Голос этот был услышан, но поздно — в бумагах моих можно найти начатые наброски комедии и рассказов о самом себе, попытку беспощадного саморазоблачения, отчаянную и позднюю попытку загладить вред, причиненный мною советскому искусству. Чувство долга, сознание общественного служения никогда не руководило литературной моей работой. Люди искусства, приходившие в соприкосновение со мной, испытывали на себе гибельное влияние выхолощенного, бесплодного этого миросозерцания. Нельзя определить конкретно, количественно вред от этой моей деятельности, но он был велик. Один из солдат литературного фронта, начавший свою работу при поддержке и внимании советского читателя, работавший под руководством величайшего писателя нашей эпохи Горького, я дезертировал с фронта, открыл фронт советской литературы для настроений упаднических, пораженческих, в какой-то степени смутил и дезориентировал читателя, стал подтверждением вредительской и провокационной теории об упадке советской литературы. И этот нанесенный мною вред нельзя подсчитать количественно, исчерпать фразами и догадками, но он был велик. Истинные размеры его я ощущаю теперь с невыносимой ясностью, скорбью и раскаянием.