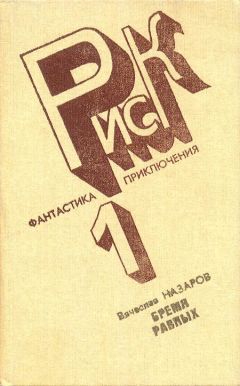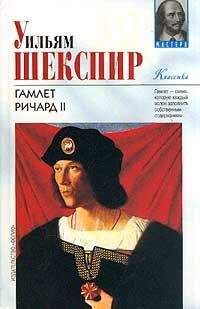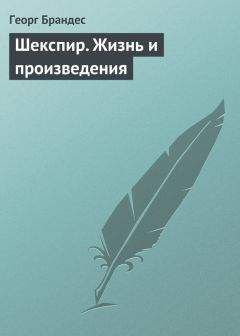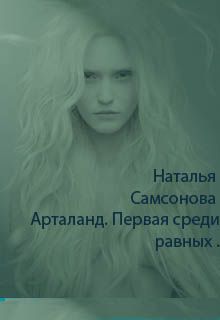Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век
Сравнивать — так сравнивать.
Хочется сравнить эти «списки» и «указатели» с тем, что всплыло на поверхность и обнаружилось с подведением итогов того же литературного десятилетия, — но уже критиками, а не литературоведами, учеными, теоретиками.
Так вот, если сравнивать списки, то те фигуры, которых разные по своим вкусам критики отнесли к наиболее актуальным, чаще всего отсутствуют в списках Эпштейна и Старопановой. Вайль П. — как и Генис А. — фигуры безусловные для них обоих, а вот Давыдов Ю. или Макании В. блистают своим отсутствием и здесь, и гам (я специально не прибавляю к списку тех, кого передравшиеся за право назваться первым в употреблении слова «новый» в приложении к термину «реализм» — надеюсь, из-за последнего споров не будет — относят к противоположной группе — от А. Дмитриева до И. Полянской).
В то же время именно те, кто не попал в «список Эпштейна» или «список Старопановой», тоже имеют самое непосредственное отношение к предмету разговора. Почему? А может быть, потому что — нет, не влияние, скорее особость и приметность их художественной стратегии достаточно очевидны. Что произошло с Давыдовым? Из «реалиста» (терпеть не могу эти термины и употребляю их исключительно для П. Басинского с С. Казначеевым) он постепенно переменился — не хочу сказать переделался, поскольку изменение шло естественно, органично и своевольно — как необстриженный куст растет, — в прозаика, легко и ненатужно, для себя самого и с удовольствием играющего со стилями, временами, эпохами, «образом автора»; играющего прозой центрированной, эксцентричной и децентрированной, с референциями и рефлексиями, штампами, банальностями и общими местами, точными и неточными цитатами, и еще раз цитатами преображенными. Пример Давыдова особенно впечатляет, поскольку он принадлежит к поколению, — может быть, слово «принадлежит» здесь не совсем уместно, но еще менее уместно «относится», — которое отчасти выработало ресурс своих творческих поисков, устало и идет (если идет) но проложенной — идейной, эстетической, этической, какой хотите — колее, уныло сопротивляясь, вернее, ворча по поводу новомодных течений. Давыдов оставляет творческий процесс без комментариев, не очень-то охотно пускает в свою кухню. Его специальная черта — держать кастрюлю под крышкой, не оповещать критиков и читателей об ингредиентах готовящегося блюда.
И тем не менее, результат (например, роман «Бестселлер») налицо, и уж теперь критик и читатель сам, по вкусу, если захочет, может попытаться определить состав вложенных продуктов. Так вот, на мой вкус (и взгляд), Давыдов искусно использовал то, о чем твердили господа постмодернисты-теоретики и что практиковали постмодернисты-практики. И это мощное использование наработанных и увядающих, «усталых» для штатных ПМ-писателей приемов как раз освежило и обновило его поэтику, стало стимулом для «отворения» закрытого — для автора, может быть, тоже — потенциала.
Я не хочу сказать, что вся эта работа, переплавка в собственном котле, варка в личной кастрюле на своей кухне, происходит сознательно и последовательно — что прозаик N тщательно, внимательно и придирчиво изучает наработанное коллегами-постмодернистами и потом готовит свое блюдо с фантазийным использованием их рецептов. Во всяком случае, пример Давыдова существен. Но есть вещи, которые растворены в воздухе; есть то, что называется эстетическим веянием времени, стилевой доминантой — или, в данном случае, субдоминантой; и автор поддается, впускает в свою мастерскую этот воздух, открывает окна пошире — может быть, и бессознательно. Для этого не обязательно читать — надо жить.
Михаил Эпштейн в своей монографии «Постмодерн в России» имеет отправной точкой рассуждений историю, — а потом уже литературу. Коммунизм, например, определяется им как «постмодерн с модернистским лицом». Но и до этого, считает Эпштейн, черты преждевременной постмодерности сопутствуют русской культуре (еще со строительства Петербурга, этой «энциклопедии европейской архитектуры», самого «цитатного» города). Насаждение цивилизации («реформ») сверху, из правящих кругов — наша традиция. Накопление знаков Нового времени — «просвещения», «разума», «гуманизма» и т. д. — в сущности, завершается их постмодерным передразниванием и опустошением, превращением в симулякр.
История литературного постмодернизма в узком смысле отличается от незавершенной истории и практики постмодерна в России. Постмодерн продолжается: например, в последнее десятилетие в новой России произошло — продолжу мысль М. Эпштейна — накопление знаков «демократии», «свободы», «прав общества», которое в большой степени сопровождается все тем же передразниванием и опустошением, превращением в симулякр — новой России как страны демократии, победившей — наконец — гидру тоталитаризма. Произошла еще одна постмодернизация, и действительно получилось, что через одни слои — в частности, номенклатурного коммунизма — стали прорастать слои грабительского (как его назвал Джордж Сорос) капитализма; сквозь коллективное тоталитарное бессознательное стали пробиваться ростки свободного демократического сознания. То есть процесс пошел, идет — с разной степенью ускорения и замедления — и сейчас, что совсем не отменяет его постмодернистской сущности.
На Западе социалистический опыт в эпоху постмодерности также воспринимается как авангардный и «по его образцу создаются теории политической корректности, ангажированности, многокультурности, властных функций письма, превосходства незападных, немодерных типов сознания» (чем не идеология, близкая — хотя бы отчасти — практике журнала «Дружба народов»?).
На самом деле, конвергенция систем существования и идеологических систем произошла и идет все дальше; сам этот процесс является глубоко постмодернистским. И, добавлю, может быть, в отличие от западнолиберального тяготения к идеям, имеющим самое непосредственное отношение к вышеперечисленным теориям (включу сюда еще и феминизм), русское либеральное сознание противится им, плохо их воспринимает, насмешничает над «политкорректностью» и «многокультурностью» (не говоря о «феминизме»).
Потому что мы как бы это все уже проходили.
Но — именно что как бы, потому что вместо «политкорректности», «многокультурности» и «феминизма» у нас вырастал гибрид (или мутант), в котором родителей-идеалистов узнать было трудно, если не невозможно.
Гибрид. Или мутант. Или — ужели слово найдено — все-таки симулякр?
Чтобы убедиться в том, что многие из понятий, утверждаемых диссидентской интеллигенцией в течение десятилетий, были насаждены в России сверху, не надо далеко ходить — надо было прожить в России последнее десятилетие. А для того, чтобы разобраться в постмодернистичности происходящего, ПМ-литературы в лице ее ведущих и не очень ведущих представителей не хватает. Почему? Да потому что разбирает (то есть, выражаясь постмодернистским языком, деконструирует) эта литература (и шире того — искусство) прежде всего и но преимуществу советское наследие, наследие советской цивилизации (и культуры).
Этим по преимуществу заняты иные — Д. Пригов, В. Сорокин, Вик. Ерофеев, А. Битов, Ю. Буйда, Д. Галковский, С. Гандлевский, З. Гареев, И. Иртеньев, Б. Кенжеев, Т. Кибиров, И. Клех, Евг. Попов, Л. Рубинштейн, В. Шаров… Список может быть дополнен и продолжен — отсылаю к достаточно представительной (и очень полезной) библиографии в книге И. Старопановой.
Старопанова различает в постмодернистской словесности в ее конкретном выражении, в определенных текстах (автор демонстрирует существующие литературно-критические интерпретации каждого из текстов, информируя об источниках, и сопровождает каждый такой «блок» собственными соображениями) три этапа, три волны, к первой волне относя «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца, «Пушкинский дом» А. Битова, «Москву — Петушки» Вен. Ерофеева, «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» И. Бродского, русский концептуализм в лице Вс. Некрасова, Л. Рубинштейна и Д. Пригова; ко второй — «авторскую маску» Евг. Попова, постгуманизм Вик. Ерофеева, шизоанализ В. Сорокина, русское «ужебыло» С. Соколова, культурфилософию М. Берга, карнавализацию языка в драматургии Вен. Ерофеева; к третьей — каталогизирующую деконструкцию Т. Кибирова, комедийно-абсурдистский бриколаж Л. Петрушевской, а также гибридно-цитатных персонажей, «двойное письмо», «экологический постмодернизм»… нет, всех и все непросто даже и упомянуть.
Но… Советское настоящее, актуальное в пору возникновения отечественного постмодернизма, отодвинуто в прошлое, и постепенно апелляция к нему, идеологическая и эстетическая, потеряла свою актуальность. Следующим этапом постмодернистской практики, которая постоянно нуждается в «топливе» для деконструкции, стала русская классическая литература — несколько лет тому назад я обозначила новый этап развития постмодернизма в России как русс-арт (но аналогии с соц-артом, выедавшим изнутри советскую социалистическую культуру). Русс-арт доминирует в «Романе» В. Сорокина, в «Накануне накануне» Евг. Попова. (Правда, нельзя не отметить — что и делает Старонанова, — что в «Пушкинском доме» А. Битова русская классика уже предстает в постмодернистской системе координат). Чем дальше, тем больше апеллирует к русской культуре Т. Кибиров.