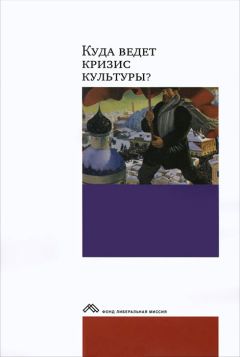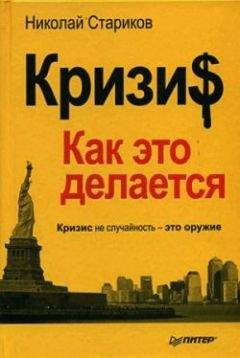Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
И еще не могу не отреагировать на замечание Вадима Михайловича относительно проблематики нашего семинара. То, что в исследовательском плане интересует лично меня, я не раз излагал на предыдущих наших собраниях. В данном отношении в представленном мной докладе не так уж много нового. Что же касается изначально предполагавшейся тематики семинара в целом, то я достаточно обстоятельно, как мне казалось, изложил свои на сей счет соображения на первом же нашем заседании. От этой тематики мы в дальнейшем почти не отклонялись. Причем ракурс ее рассмотрения, представляемый Вадимом Михайловичем, кажется мне крайне важным и интересным, стимулирующим содержательный диалог. Без этого ракурса содержание семинара было бы намного беднее.
Алексей Кара-Мурза:
Насчет роли личности Межуева в истории нашего семинара я полностью согласен. Мы приближаемся к финишу. Прошу вас, Андрей Анатольевич.Андрей Пелипенко:
«Армия в России – это всегда больше, чем армия»
Доклад Игоря Моисеевича Клямкина представляется мне одним из самых глубоких, содержательных и эвристичных среди тех, что звучали на нашем семинаре. Значение «милитаристской» темы в российской культуре явно недоизучено и недооценено. Уже одно это вкупе с глубиной концептуального видения проблемы полностью искупает любые придирки к «фактуре», которые мог бы высказать дотошный историк. Но я не историк и потому, не вдаваясь глубоко в исторические обстоятельства и не притязая на системность анализа, кратко выскажу несколько культурологических суждений по теме.
Разумеется, милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах. Отказ от линейно-прогрессистских схем исторического развития сделал возможным важное наблюдение о том, что ментальные программы, соответствующие тем или иным историческим этапам, не стираются последующим развитием. Латентно присутствуя в глубинных слоях ментальности, они либо «ждут своего часа», либо подспудно просачиваются «наверх», преломляясь и трансформируясь в соответствии с наличными условиями доминирующего уклада. Так всеобщие архаические основания культуры оборачиваются частными моделями в локальных культурных системах. Всеобщие основания милитаристского сознания восходят к эпохе верхнего палеолита в его не столько хронологическом, сколько стадиальном понимании. Тогда, в верхнем палеолите, резкая половозрастная (прежде всего, гендерная) поляризация общины поставила первобытный социум на грань дезинтеграции, способствуя тем самым трансформации мужских охотничьих программ в военные. Что, в свою очередь, способствовало началу истории собственно военных столкновений. К этому времени относится и формирование основ соответствующего мифоритульного комплекса, фрагменты и проекции которого получали далее в истории самое разнообразное воплощение и локальные версии развития. Главные компоненты этого комплекса представляются следующими:
• образ Врага . Истоки картины мира, где образ Врага является неотъемлемой и необходимой частью реальности, имеют двойственную природу. С одной стороны, это закономерное осмысление в мифе еще животной по своим основаниям ненависти к двойнику – порождению присущей исключительно человеку (и его предкам, начиная по меньшей мере с архантропов) внутривидовой агрессии. С другой стороны, миф Врага во многом зиждется на взрывном развитии охотничьих практик и охотничьей автоматике в верхнем палеолите.
Правда, отношение к охотничьей добыче в ходе трансформации охотничьих практик в военные существенно изменилось. Враг – не просто добыча. Это не промысловое животное, чье физическое возрождение и умножение следует обеспечивать соответствующими магическими действиями. Враг – это существо, самим своим существованием отрицающее единственно правильный миропорядок и ритуальные основы космоса. И магия медиации с запредельным миром по поводу Врага – это не обеспечение его возрождения. Это, наоборот, блокировка возможного воплощения его души (точнее психического субстрата) в новом теле. Потому, в частности, убивая врага, первобытный охотник тотчас же совершает его ритуальную кастрацию. Но именно в таком качестве образ Врага и оказывается необходим. В условиях «разгерметизации» изолированных общинных микросоциумов без этого образа консолидация общины (прежде всего, мужской ее части) и осознание идентичности могло бы быть чрезвычайно затруднено;
• культ победы . Военная победа отмечает точку в мифическом времени, связанную с сакральным обновлением космоса. У народов, «полноценно» прошедших неолитическую стадию развития, первобытная военная ритуалистика сакрального обновления оказалась вытеснена календарной, основанной на циклическом умирании и возрождении природы. А народы кочевые или получившие культурные достижения неолита из третьих рук остались во многом верны культу военной победы со всеми вытекающими отсюда социокультурными последствиями;
• идентификация человека ( мужчины ) как воина . Этот момент, думаю, в комментариях не нуждается.
В эпоху перехода от архаики к цивилизации военный мифоритуальный комплекс окончательно оформился в своих универсальных функциях. Таких как:
• консолидация социума ;
• самоопределение ( идентификация ) по отношению к Врагу ( Иному );
• мобилизация культурного ресурса : демографического , технологического , информационного и других .
Не случайно ряд исследователей связывает с войной и само становление ранней государственности, хотя мне эта концепция представляется сомнительной или по меньшей мере недостаточной. Кстати, мобилизация культурного ресурса в ситуации войны решает еще одну чрезвычайно важную для архаического и постархаического сознания проблему. А именно – проблему блокировки расширения этого ресурса или, иными словами, сохранения мифоритуального status quo . Потребность в таком сохранении диктуется стремлением не умножать число вещей и смыслов во имя сохранения традиционного мифоритуального ядра и каналов медиации с запредельным миром. Потому что любые новые вещи и смыслы оттягивают на себя энергию переживания, которая должна быть консолидировано направлена в ритуальные практики.
Таковы в самых общих чертах древние мифоритуальные основания милитаристского сознания. Каким же образом проявились и преломились они на российской почве? В чем заключается специфика именно российского милитаризма?
Разумеется, пошлые разговоры о «бабьей душе» России, млеющей от вида гусарских усов и бравурных звуков военного марша, в нашем контексте неуместны. Мне представляется, что специфику здесь следует искать не в самих моделях и культурных функциях милитаристских смысловых комплексов, – они практически везде одинаковы. Специфика – в их наложении на российскую социокультурную систему и их конфигурировании в ней.
В частности, понимание военного ремесла как способа увильнуть от необходимости работать на цивилизационный ресурс и расширять его распространено универсально. Но историко-культурные модели этой бессознательной установки для каждого общества специфичны. Специфичен и сам концепт военной службы . В России идея служения вообще и военной службы в частности приобрела некую метафизическую окраску. Служба – программа, не имеющая конкретной или конечной цели. Это Служба ради самой службы, смысл которой относится к сакральным основаниям мироздания и не подлежит профанирующей рационализации. Конечно, в такой позиции тоже нет ничего исключительно российского. Эффект исключительности возникает в силу обстоятельств бытования этой парадигмы в контексте российской культурно-исторической реальности.Алексей Кара-Мурза: Русская специфика что-то не ухватывается…
Андрей Пелипенко:
Специфичен именно контекст. Поясню это на примере лишь одного историко-культурного обстоятельства, о котором шла речь в моем докладе на семинаре, – на примере присущего «Русской системе» и ею непреодолимого социокультурного раскола.
В расколотом российском обществе есть два героя-медиатора – Власть и Армия. Первый «эманирует» в общество в виде чиновничьей иерархии, и потому медиатором, связующим полюса Должного и Сущего, Власти и подвластного, выступает чиновник. Второй же имманентный медиатор – излюбленный герой народных сказок – солдат. Он также причастен к обоим мирам: Служба связывает его с трансцендентными началами Власти и Государства, но при этом он, как говорится, «плоть от плоти народной» со всеми вытекающими отсюда выводами.