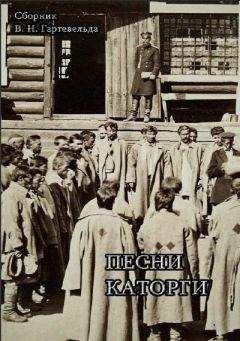Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь
В меню дадаистского ресторана Фонда художников Нью-Йорка есть салат «Сезанн», в состав которого входят яблоки и апельсины, а в оформлении используется холст.
Из счета художника за пребывание в отеле «Боди» в Живерни в 1894 году видно, что он частенько заказывал бутылку макона (1,5 франка), иногда виски (75 сантимов), реже коньяк (40 сантимов) и, что несколько неожиданно, подтяжки (3 франка).
По мнению Эрнеста Хемингуэя, работы Сезанна лучше всего рассматривать на голодный желудок. В «Празднике, который всегда с тобой» (1964) он пишет: «Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверное, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой». Будучи на грани нищеты, Хемингуэй чуть ли не каждый день ходил смотреть на «сезаннов» в Люксембургском музее. «Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна»{1051}.
По словам Бернара, в палитре Сезанна было три синих пигмента: кобальт синий, ультрамарин и прусская синь. Ле Байль рассказывал, что, начиная работу над холстом, «он писал ультрамарином, сильно разбавленным скипидаром, энергично и уверенно накладывая краску». На вопрос о том, почему он так любит ультрамарин, Сезанн отвечал: «Потому что небо синее»{1052}. По мнению Эрика Ромера, для Сезанна «небо прежде всего синее и только потом уже небо»{1053}. Согласно неопубликованному счету, 18 октября 1888 года Танги прислал ему ультрамарин Гийме. А в недавно найденном письме неизвестному торговцу красками значится, что 14 июля 1905 года Сезанн заказал пять тюбиков прусской сини от Буржуа{1054}. Технический анализ работ свидетельствует о том, что Сезанн использовал прусскую синь только при письме маслом, а индиго только в акварелях; в нескольких акварелях также были обнаружены смешанные зеленые пигменты, полученные из кобальта синего и желтого хрома. По словам Гюисманса, один известный художник импрессионистского толка любил синий, используемый при изготовлении париков. Бриджет Райли говорила, что крупная версия «Купальщиков» отличается великолепным, оглушительным синим цветом. Рильке утверждал, что Сезанн использовал по меньшей мере шестнадцать оттенков синего. Некоторые из них традиционны (небесно-голубой, цвет морской волны, сине-зеленый), но большинство весьма необычно. Среди них были дымчатая синева, густой восковой синий, сине-сизый, влажный темно-синий, сочный синий, легкая облачная синь, грозовой синий, обычный синий хлопчатобумажной ткани, ватная синева, древнеегипетский приглушенный синий. «Кажется, что его краски освобождают человека раз и навсегда от неуверенности. Правдивость красного, синего цвета, их простота воспитывают. И если встать перед его картинами с готовностью воспринять их воздействие, то чудится, что они тебя учат чему-то»{1055}. Брессон говорил, что наравне с брейгелевским красным существует сезанновский синий. По словам Мирбо, в каждом дне календаря есть синий час, который Сезанн умел ухватить. Феноменолог Мерло-Понти утверждал, что существует синее бытие. Тициан якобы считал, что художнику достаточно всего трех цветов: белого, черного и красного. Сезанну же был нужен синий.
По словам Сезанна, «поскольку в природе мы, люди, воспринимаем больше глубину, чем поверхность, то необходимо вводить в колебания света, передаваемые красными и желтыми тонами, достаточное количество голубых, чтобы дать почувствовать воздух»{1056}. Главный редактор журнала «Аполлон» Сергей Маковский вспоминал, что русский коллекционер Морозов намеревался приобрести одну из «голубых» работ Сезанна. Он рассказывал о посещении галереи Морозова: «Я с удивлением заметил пустое место на стене, заполненной работами Сезанна. „Это для «голубого сезанна»… Я уже давно его ищу, но пока так и не смог выбрать“»{1057}. В итоге он нашел то, что искал, в лавке Воллара: «Голубой пейзаж» (цв. ил. 77), впоследствии ставший его любимой картиной. Несколько лет спустя, в 1926 году, в Музее нового западного искусства в Москве Вальтера Беньямина посетило озарение перед этой работой:
Я рассматривал необычайной красоты «сезанна» и вдруг понял, что зритель, в той мере, в какой он способен воспринять картину, никоим образом не вторгается в ее пространство; напротив, это пространство само стремится ему навстречу, особенно некоторые его участки. Оно открывается нам под теми углами, в тех преломлениях, где, как нам кажется, мы можем увидеть собственный прошлый опыт. В этих участках есть что-то необъяснимо знакомое{1058}.
Зал Сезанна в собрании Морозова. Ок. 1923
Встреча с Сезанном повлияла на творчество Беньямина, как и на творчество многих и многих. Всего за несколько месяцев до самоубийства он записал пророческие размышления в трактате «О понятии истории» (1940): «Подлинный образ прошлого проносится мимо. Прошлое можно ухватить только в форме образа, который принимает свои очертания лишь в миг узнавания, а затем ускользает навсегда»{1059}.
«Синезажи» (Фредерик Джеймсон называл их bluescapes) встречают собрата в лице «синемортов» (bluelifes). Здесь вновь слышны отзвуки акварелей. Ломаные синие контуры на этих натюрмортах передают ощущение воздуха, окутывающего объекты и проходящего сквозь них. По словам Р. П. Ривьера и Ж. Ф. Шнерба, молодых гостей Сезанна, «он не стремился передать форму линией. Контур служил для него лишь границей, где заканчивалась одна форма и начиналась другая… Контура как такового нет, и форма существует лишь в силу присутствия соседних форм»{1060}. Вездесущий синий горшок испускает голубоватые волны, поддерживая тем самым составившие ему компанию синие фрукты{1061}.
По выражению Анри Мишо, Сезанн вскрывает суть вещей, «чтобы показать, как вещи становятся вещами, а мир становится миром». Словами Хайдеггера можно сказать, что Сезанн – «бытие-в-мире»{1062}. Это ощущение прекрасно передал Рильке:
Жизнь тишины и бесконечный взлет,
нужда в пространстве и пренебреженье
пространством, уменьшающим предметы,
почти без контуров, как без предела
все внутренне – и душа и тело,
и освещающее самое себя:
нам что-нибудь знакомо так, как это?{1063}
Озарение, связанное с творчеством Сезанна, испытали очень многие. Кеннет Кларк рассказывал, что когда еще подростком во время Первой мировой войны оказался на временной выставке в Художественной галерее Виктории в Бате, «работы Мане меня ничем не зацепили, а соборы Моне озадачили не меньше, чем сейчас. Однако „сезанны“ стали настоящим откровением. В частности, один пейзаж поверг меня в такой эстетический шок, какого я ранее не испытывал ни разу. Я не мог ему сопротивляться и почти каждый день ходил на него смотреть». Несколько лет спустя, в 1922 году, эту же картину на выставке в Клубе изящных искусств в Берлингтоне увидел Сэмюэл Куртолд. «Один из моих друзей, молодой художник, писавший вполне традиционные портреты, а до этого служивший в Королевском летном корпусе, подвел меня к сезанновскому „Прованскому пейзажу“… Он явно был искренне восхищен, но не слишком это показывал и заключил в типичной для летчика манере: „Она заставляет вас двинуться в этом направлении, затем сменить курс, а потом и вовсе пуститься во все тяжкие!“ В тот момент я ощутил волшебство, и с тех пор работы Сезанна неизменно вызывали у меня это ощущение»{1064}.
«Я легко могу представить, как неподготовленный человек… никогда ничем этаким не баловавшийся [имеется в виду марихуана], рассеянно проходит мимо полотна Сезанна, почти не замечает его, взгляд лениво блуждает по картине, теряясь в ней, проходя ее насквозь и попадая в космос, и вдруг он застывает, волосы его встают дыбом, и он цепенеет, видя перед собой целую вселенную, – говорил Аллен Гинзберг. – Мне кажется, что-то подобное происходит со многими, кто видит его картины»{1065}. В 1936 году на парижской выставке работ Сезанна философ Анри Мальдине, оказавшись перед привезенным из Москвы «Видом на гору Сент-Виктуар со стороны Лов», сразу же увидел космос. Однако даже не обязательно смотреть на оригинал. Роберт Мазервелл в возрасте четырнадцати лет с первого взгляда влюбился в первого же «сезанна», увиденного в репродукции.
По мнению Фредерика Джеймсона, теперь уже невозможно получить непосредственное впечатление от картин Сезанна, «поскольку их ценность превратилась в функциональный компонент идеологии модернизма»{1066}. Мы имеем дело не с полотном, а с культурным образованием. «Обывателю нравится „сезанн“ обывателя, и он в восторге закатывает глаза: „Какая кааартина! Ооо, какая кааартина!“ – ёрничал в свой дадаистский период Макс Эрнст. – Плевать я хотел на Сезанна, он просто огромный шмат живописи»{1067}. Джон Бёрджер, осознанно или бессознательно подтверждая мнение Роджера Фрая, говорил, что «о психологии и эстетике творчества Сезанна написаны миллионы слов, но в полученных выводах нет ничего о свойственном ему притяжении. Все согласны с тем, что его картины отличаются от всего, что было написано раньше; а работы последователей едва ли сравнимы с ними, поскольку являются продуктом глубокого кризиса, который Сезанн… отчасти предсказал, а отчасти спровоцировал»{1068}. Секрет Хемингуэя так и остается секретом. Гертруда Стайн тоже не особенно продвинулась в этом вопросе: