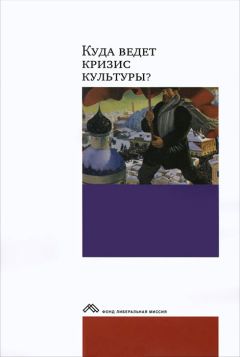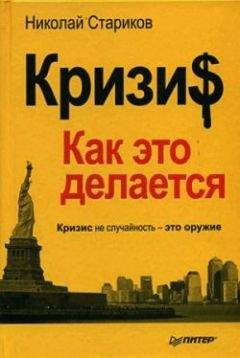Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
Алексей Кара-Мурза: Спасибо, Алексей Платонович. Русский Давид, как я понял докладчика, из нашей нынешней демилитаризации произрасти уже вряд ли сможет…
Игорь Клямкин: Кстати, сменивший Давида Соломон переориентировал государство на мирную жизнь, в результате чего увеличилось социальное расслоение, стала нарастать внутренняя напряженность, и почти сразу после смерти Соломона государство это распалось на две части. Но я хочу обратить ваше внимание на интересный вопрос, затронутый Алексеем Платоновичем, – о связи милитаризации с бюрократизацией и клерикализацией. Тут есть, что исследовать. Тем более что эта связь в России тоже всегда была своеобразной. Здесь не наблюдалось такой глубины клерикализации, как, скажем, в мусульманских странах. А при Петре I, строившем светское милитаристское государство, ее вообще не было. И российская бюрократизация отличалась, например, от китайской, являвшейся самодостаточной и обходившейся без милитаризации. Отличалась она и от европейской бюрократизации эпохи абсолютизма, оставившей в прошлом феодальную милитаризацию социума.
Алексей Кара-Мурза: Все это действительно интересно. Следующий – Михаил Афанасьев.
Михаил Афанасьев:
«Исторической и культурной проблемой России было и остается государство»
Лейтмотив обсуждаемого доклада, как я понял, таков. Государственный и общественный строй России с давних пор и до недавнего времени был военно-служилым. С указов Петра III и Екатерины Великой о вольностях дворянства началась демилитаризация России, которую можно назвать и ее европеизацией . Этот процесс шел, во-первых, сверху и, во-вторых, очень непоследовательно. Снизу, т.е. народом, демилитаризация не поддерживалась, поскольку крестьянская культура сама тяготела к насилию, и все попытки строить на ее основе государственную организацию приводили лишь к новой милитаризации. Наложение поверхностной цивилизаторской тенденции на нутряную интенцию русского порядка логично завершилось революционным взрывом, ликвидацией слегка европеизированного Российского государства и новым витком широкомасштабной милитаризации общества. Апогей этой последней милитаризации – сталинщина. Потом снова началась демилитаризация. Но попытка системной замены военно-служилого строя на правовое государство в 1990-х годах опять не увенчалась успехом. Модернизация в России не идет.
Таково основное содержание доклада, и отношение к этому содержанию у меня неоднозначное. Начну с того, что в концепции Игоря Моисеевича есть вещи, которые представляются мне бесспорными и притом очень важными. Вот три главных пункта:
1. Возможность осуществления модернизации в России действительно не очевидна и вызывает большие вопросы;
2. Милитаризм действительно играл существенную роль в исторических формах российской и советской государственности;
3. В России действительно организованная и легитимированная военными необходимостями насильственная власть периодически опрокидывалась неорганизованным насилием снизу, воспроизводящим хаос, из которого рождалась новая организация насилия – новый Левиафан.
В то же время у меня вызывает сомнения попытка цитируемого докладчиком Герберта Спенсера построить историческую социологию на концептах «воинствующего» и «промышленного» типов социальной организации, равно как и попытка самого докладчика выстроить на этом основании историческую социологию России. Понятен либеральный пафос Спенсера, отнесшего к «воинствующей» предыстории все прошлые и почти все современные ему цивилизации за исключением самой передовой – англосаксонской. Но издержки такого подхода, по-моему, очевидны. Концепт «воинствующего» социума применим как к Спарте, так и к Афинам; как к грекам, так и к персам; как к Риму, так и к варварским королевствам; как к феодализму, так и к абсолютизму; как к европейским монархиям, так и к кочевым империям. Но столь абстрактное определение мало что объясняет. Понятно лишь, что 1) исторически война была когда-то главным государственным делом, что 2) военные государства были очень разными, и что 3) одни военные государства трансформировались в правовые, а другие не трансформировались.
Можно с большой уверенностью предположить, что те государства, организация и деятельность которых были полностью подчинены целям войны, хуже всего трансформировались в правовые. Наиболее наглядный пример – кочевые орды-империи. Однако ни одно государство – тем более в земледельческих и городских цивилизациях – никогда не сводило свою деятельность исключительно к осуществлению военных и угнетательских функций. Даже в варварских надплеменных общностях невоенные функции – общественных ритуалов, обмена, резервирования и перераспределения, суда, внешней торговли – были вполне выделены, специализированны, принципиально значимы и авторитетны. Со временем задачи воспроизведения цивилизации усложнялись. Классический пример – Афины, где, в отличие от Спарты, граждане занимались не только войной и военной подготовкой, но и земледелием, торговлей, искусством, философией. Всемирными моделями устойчивого развития доиндустриального типа – соединения военного государства с цивилизацией – были Рим и Византия на Западе, Китай на Востоке. Европейский абсолютизм, возникший в ответ на угрозу со стороны Османской империи, был возрождением античной модели империи со всеобщим налогообложением для создания массовой регулярной армии.
Итак, взгляд Спенсера на всемирную историю оказывается чересчур поверхностным. Во-первых, излишне абстрактная категория «воинствующего» типа социальной организации не позволяет выделить и определить существенные различия между государствами доиндустриальной стадии истории. Во-вторых, альтернативная категория «промышленного» социума, верно подчеркивая значение рыночного обмена и контракта как факторов современной социальной организации, в то же время игнорирует иные факторы генезиса правового государства. Тысячелетние обычаи родоплеменного, общинного и полисного самоуправления и военной демократии, корпорации, сословные статусы и привилегии-вольности – это традиционные корни естественного права. Об этих корнях говорили античные философы, их значение было ясно великим людям Просвещения (Локк, Монтескье, Берк, Кант), но это понимание исчезло и сменилось пренебрежением в радикальных идеологиях модернизма.
Перехожу к России. Мой собственный концептуальный подход (именно подход, еще не концепция) представлен в докладе, с которого мы начали нашу долгую дискуссию о кризисе российской культуры. Второго доклада сейчас делать не буду. Ограничусь заметками на полях доклада Игоря Моисеевича Клямкина.
1. Сколь бы критично мы ни оценивали уровень цивилизации и качество государства на разных стадиях отечественной истории, не вижу оснований приравнивать Русь-Россию к Монголии, Золотой орде или, скажем, к Чечне. Поэтому мне представляется необоснованным определение Московского царства и Российской империи в качестве «воинствующего» социума, который якобы фундаментально и принципиально отличен от социума европейского.
В докладе, правда, этот термин применительно к России не используется, в нем говорится о ее «милитаризации», что, безусловно, отражает существенную тенденцию и традицию в ее развитии. Следует, однако, отдавать себе отчет в том, что, во-первых, без милитаризации не обходилась в прошлом ни одна крупная континентальная страна и, во-вторых, что милитаризация была обязательным условием успешного участия в большом европейском (по сути, в мировом) концерте в эпоху абсолютизма. Так что сама по себе «милитаризация» никоим образом не определяет русскую специфику. А чтобы понять, насколько она ее определяет, следует охарактеризовать степень милитаризации государственного управления и народной жизни, что, в свою очередь, требует проведения сравнительно-исторических исследований. Была ли, например, Московия более милитаристским государством, чем рыцарский Орден, шляхетская Польша или гусарская Венгрия?
Кроме того, если мы осмысленно говорим о милитаризации и ее волнах в некоем социуме, то предполагаем, что такой социум не всегда был тотальной военщиной. О милитаризации Золотой орды, Крымского ханства или Османской империи, например, никто не говорит. А если так, то не следует ли задаться вопросом о том, что в русском мире было кроме военщины? В докладе такой вопрос не ставится, поскольку концепция доклада уже предполагает ответ: ничего существенного .
2. Что касается самой русской военщины, то и она в разное время была очень разной. Изначально Русь была совместным военно-торговым предприятием варяжской дружины и городских полков словен, кривичей и полян. И до XVI века во всех внешних и внутренних войнах русский военный строй состоял отнюдь не только из княжеско-боярских дружин, но еще и обязательно из городских полков, в которых бились свободные горожане, имевшие право на долю в добыче. Этот же русский строй мы видим в 1612 году, когда по обычаю была сформирована земская рать, под водительством Пожарского отбившая Москву.