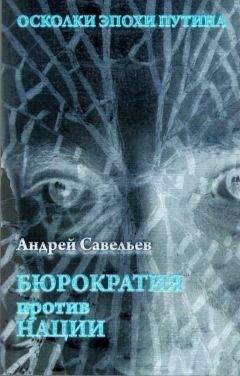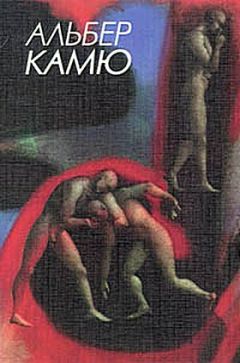Михаил Меньшиков - ПИСЬМА К РУССКОЙ НАЦИИ
Прав ли Толстой, что "двадцатиэтажные дома" и "мостовые" заслуживают, чтобы ими ужасаться? Хотя Толстому не приходилось видеть подобных домов в России и этажей десяток с лишком он накинул для красоты слога - но неужели многоэтажные дома и городские мостовые, вообще говоря, хуже отсутствия всяких домов и всяких мостовых? Неужели жизнь человеческая была бы радостнее в пещерах и землянках, в невыразимой загаженности наших крестьянских изб, дворов и улиц?
"Дым и копоть" городов, конечно, скверная вещь, особенно для обоняния большого барина, родившегося в княжеской усадьбе своего деда и почти не выезжавшего из нее. Но статистика смертности говорит, что дымный Лондон вдвое более здоровый город, чем средняя русская деревня, - несмотря на густейшую копоть! Прав ли наш яснополянский пророк, будто никому не нужно лазание под землю за железом, никому не нужны железные дороги, никому не нужны развозимые ими люди и товары? Но мы знаем одного знаменитого философа, который, написав о ненужности железных дорог и наконец решившись уйти из мира (или пойти в мир - до сих пор об этом спорят), прежде всего отправился на станцию железной дороги и купил билеты для себя и для своего спутника. По иронии судьбы, даже смерть пришлось ему встретить на железной же дороге, в комнате начальника одной отдаленной станции. Отрицается железо, но неужели каменный век, когда люди не лазили под землю за железом, был любовнее и радостнее нынешнего железного? Обработка каменных инструментов была гораздо тяжелее обработки теперешних железных, и люди гораздо чаще дробили друг другу черепа кремневыми топорами, чем железными. Прав ли также Толстой, что железные дороги развозят будто бы никому не нужных людей и ненужные товары? Скажи подобную сентенцию какой-нибудь безграмотный крестьянин, ее назвали бы просто глупостью; сказанная же знаменитым человеком, она готова сойти за особенную мудрость. Но что же, однако, тут мудрого - утверждать, будто пассажиры никому не нужны и что "товары" тоже сплошь не нужны? Самая значительная часть товаров у нас - сырье, и в особенности зерновой хлеб. Умно ли утверждать, что и хлеб, наконец, никому не нужен?
Прав ли Толстой, будто бы его "милые братья", то есть все люди, кроме него, только тем и занимаются, что ненавидят, боятся, мучат, мучатся, убивают, запирают, казнят, учатся убивать и убивают друг друга? Если бы это было так, то это было бы действительно ужасно, - но на самом деле ведь ничего подобного нет в натуре. Загляните в любую семью, в любую артель, корпорацию, в любую клетку общественности, и вы увидите, кроме известного процента преступных и вздорных людей, подавляющее большинство не преступных. Их трудовая жизнь движется с утра до вечера вовсе не ненавистью и не заботой о том, как бы убить друг друга, а, напротив, любовью к своим ребятишкам, привязанностью к родным и друзьям, чувством долга в отношении родины и вообще добропорядочными чувствами. "Милые братья, - вопит Толстой, - опомнитесь, оглянитесь, подумайте о своей слабости, мгновенности, о том, что в этот неопределенный короткий срок жизни между двумя вечностями или, скорее, - безвременностями жизни, не знающей высшего блага, чем любовь, подумайте о том, как безумно не делать, что вам свойственно делать, а делать то, что вы делаете". На это подавляющее большинство трудящихся и кормящих свои семьи людей справедливо ответят, что они делают именно то, что им свойственно, и сколько в силах облегчают этим трудом жизнь и свою, и ближних, а вот философы-миллионеры, проповедующие в родовых усадьбах "неделание" и "непротивление", едва ли могут похвастаться даже этим скромным результатом трудовой жизни.
Раз навсегда надев черные очки и утратив, подобно всем анархическим отрицателям, способность видеть здоровое и прекрасное в жизни, Толстой сам глядит на мир крайне мрачно и умоляет всех смотреть такими же отравленными глазами. "Жизнь мира, человечества всего, как она идет теперь, - внушает он, - требует от вас злобы, участия в делах нелюбви к одним братьям ради других, не дает блага ни другим, ни вам". Но так ли это? Не есть ли это клевета на Создателя, сотворившего мир и человечество будто бы совсем уж скверно? "Об одном, - вопит Толстой, - об одном прошу вас, милые братья: усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть... Усомнитесь в той кажущейся вам столь важной внешней жизни, которой вы живете... все те воображаемые вами устройства общественной жизни миллионов и миллионов людей, все это ничтожные и жалкие пустяки в сравнении с той душой, которую вы сознаете в себе". На эти вполне бессодержательные и бездоказательные призывы "усомниться", то есть потерять остатки веры в жизнь как она есть, здравомыслящий читатель скажет: но что же, однако, делать после того, как признаешь жизнь отвратительной и нелепой? Вешаться, что ли? О нет, Толстой с величайшим пафосом против всех зол рекомендует любовь. "Поверьте, - говорит он, - что любовь, только любовь выше всего: любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни" и пр., и пр. "Милые братья, не смею говорить: "поверьте, поверьте мне", - не верьте, но проверьте хоть один день. Хоть один день, оставаясь в тех условиях, в которых застал вас день, поставьте себе задачей во всяком деле этого дня руководиться одной любовью. И я знаю, что, сделай вы это, вы уже не вернетесь к старому, ужасному, губительному заблуждению".
Вот спасительный рецепт Толстого - любовь. Правда, рецепт не нов, на нем лежит штемпель тысячелетий. Но если Толстой с таким жаром навязывает любовь, любовь, одну любовь вместо всякого государственного устройства, домов, мостовых, железных дорог и движения людей и товаров, если он уверен, что это единственный рецепт счастья, каждому доступный в любых обстоятельствах, то естествен вопрос: достигли сам Толстой счастья, применяя к себе этот рецепт? Великие праведники, начиная с Будды и Сократа и кончая Серафимом Саровским, сами достигали блаженства, применяя к себе свое учение. Спрашивается, счастлив ли был Толстой в те годы и те дни, когда он писал свое прощальное слово о любви как единственном секрете счастья? Ближайший друг Толстого В. Г. Чертков дает к статье "примечание", чрезвычайно важное, в котором с головой выдает и самого пророка, и всю обстановку, в которой он умирал. Оказывается, когда Толстой писал о "Благе любви", он был "тяжко болен", а "болезнь эта, как и все почти серьезные заболевания в течение последнего десятилетия его жизни, явилась прямым последствием потрясения... в связи с мучительно-тяжелыми условиями его семейной жизни и окружавшей его обстановки. Условия эти... по временам так усложнялись и обострялись, что становились ему почти невмоготу". Толстой много раз порывался бежать из семейного ада, но, желая быть праведным, "оставался на своем посту и продолжал нести свой крест". "Но, оставаясь дома, в той же гнетущей обстановке, он все больше и больше убеждался в невозможности малейшей перемены к лучшему... Тогда под влиянием почти полного истощения сил он начинал мечтать о смерти как единственном доступном для него избавлении, а телом его, изнуренным от нервного и сердечного переутомления, овладевала болезнь..." Именно в 1908 году, по свидетельству г-на Черткова, он "переживал период особенно острых душевных страданий".
Но, может быть, г-н Чертков преувеличивает семейную неурядицу в семье Толстых из издательской вражды к Софье Андреевне? Нет, им приводится подлинная выдержка из дневника Толстого за 1908 год: "Все так же мучительно, жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена... Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть... Я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду..." И такое отравленное, "вполне отравленное" состояние тянулось, если верить г-ну Черткову, не годами, а десятилетиями, именно "в течение последних десятилетий его жизни", когда он выступил с учением любви. Тогда-то именно его жизнь и сделалась "вполне отравленной", до нервного истощения, до болезней, до отчаяния, до желания смерти как единственного выхода, до беспорядочного бегства, наконец, зимней ночью тайком от семьи куда глаза глядят. Спрашивается, если рецепт любви так легко осуществим и чудотворен, то почему Толстой не применил этого спасительного средства к своей ближайшей обстановке? А если он применял, что несомненно, то почему же результаты получились вполне отрицательные?
Вопрос этот я считаю роковым для толстовской проповеди как пророческой. Это та ледяная глыба, на которой идет ко дну своего рода "Титаник" современного христианского анархизма. Всякий честный человек воочию видит, что пророк, метавший громы на государство, Церковь, цивилизацию, семью, брак, собственность, науку, искусство и пр., и пр., не мог устроиться сколько-нибудь покойно даже в своей родной семье, в родовом имении предков. Пророк, проповедовавший один рецепт - любовь, у себя же дома был отравлен такой враждой, которая его, 80-летнего старца, заставляла мечтать о смерти. Это было как раз за неделю до пышного толстовского юбилея, когда реклама, пущенная евреями на весь свет, рисовала нашего философа блаженствующим в кругу любимой семьи, под охраной ангела-хранителя, когда-то воспетой им очаровательной "Кити"... Взвесив все это, не кажется ли вам, что Толстой не имел права говорить о всемогуществе любви, когда целыми десятилетиями убедился на себе же в бессилии этого средства? Именно тут, мне кажется, фальшь толстовщины бьет в глаза с особенной силой. Основная фальшь здесь в том, что любви нельзя учить, как бесполезно вообще "проповедовать" силу, ум, здоровье, красоту. Эти прекрасные состояния - большая роскошь природы, они достигаются долгой культурой и совокупными усилиями всего рода человеческого. Именно для достижения когда-нибудь общей любви, гениальности, здоровья, красоты и т. п. и служат великие отрицаемые Толстым учреждения - государство и Церковь. Именно любовь или, по крайней мере, мир и есть цель отрицаемой Толстым трудовой цивилизации. Сделаться любящим (то есть святым) столько же в нашей власти, сколько сделаться красивым, если вы уродились безобразным. Здание человеческого счастья, мне кажется, дается лишь рождением, - нам лично доступен только кое-какой ремонт. Вся драма Толстого в том, что, не будучи от природы добрым, он хотел во что бы то ни стало сделаться добрым. Крайне нетерпимый, гордый, раздражительный, способный ненавидеть, как и любить, от всего сердца, он связал свою судьбу с людьми такого же приблизительно характера, и в результате кроме многого счастья пережил все больше дрязг. Вот отчего роль пророческая ему не удалась: он не родился пророком.