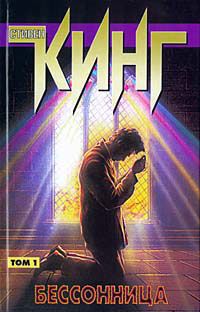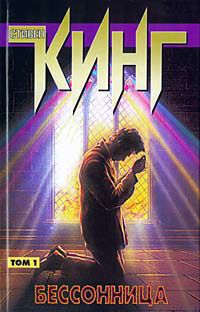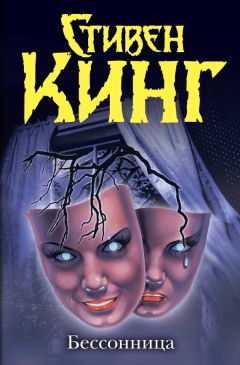Александр Крон - Бессонница
— Кем же?
— Не знаю. Только не медсестрой. Даже сиделка я плохая. Наверно, радисткой. Или разведчицей. Только вот… — Она прикусывает нижнюю губу и смотрит на меня исподлобья. — Пытки, понимаете? Выдержу или нет? Этого ведь никто не знает наперед. Но я живой бы и не далась. Есть такие ампулы. В случае чего — рраз! И — с приветом. — Вдруг страшно застеснявшись — то ли вульгарноватого словечка, то ли своей откровенности, — она вскакивает: — Я тут болтаю, а у меня… Извините. Бегу.
Оля скрывается в доме, чуть не столкнувшись в дверях с Вдовиным. Он замечает меня:
— Зайди, потолкуем.
Тон не повелительный и не просительный, так может говорить тот, кому есть что сказать. И я, решивший по примеру Беты уехать без дальнейших объяснений, молчаливо соглашаюсь. Мне не хочется идти к нему, но Вдовин к себе и не приглашает, а ведет в контору. Мы минуем барьерчик и стучащую на машинке пожилую секретаршу и проходим в кабинет. Все как у людей: полированная мебель, застекленный шкаф с девственно-свежими ледериновыми корешками сочинений основоположников научного материализма. Телефонных аппаратов только два, но в углу я вижу переносную рацию. Вдовин делает широкий жест, мне предлагается любое место вплоть до его собственного. Я сажусь поближе к двери, а Вдовин подходит к своему столу и не садясь заглядывает в перекидной календарь.
— Броня вам оставлена. Купе первой категории. Машина будет к девяти. Так что все обеспечено.
— Спасибо.
— Расстаемся без объяснений?
— А зачем? Я примерно знаю, что ты можешь сказать, "Мальчишка, пьян, озлоблен…"
— Для этого я не стал бы приглашать тебя сюда.
— Значит, Илья сказал правду?
— В какой-то степени — да.
— Правда не имеет степеней.
— Имеет, ты это знаешь не хуже меня. Можешь меня выслушать?
Убедившись в моем согласии, он не торопится начинать и с задумчивым видом прохаживается по кабинету. Все дальнейшее больше похоже на лекцию, чем на исповедь:
— Как ты знаешь, я выступал против Ильи. Выступал резко. Я и тогда не отрицал, что его работа талантлива. Но шла идейная борьба, и я рассуждал так: чем талантливее — тем вреднее.
Начало любопытное, но мне неохота спорить по существу. С человеком, укравшим серебряную ложку, не обсуждают химические свойства серебра. Поэтому реагирую вяло:
— Оставим концепции в покое. Ты не имел права выступать по неопубликованной диссертации. Мог потерпеть до защиты.
— Нет, не мог. Смысл сессии в том и заключался, чтоб нанести упреждающий удар. Откровенно говоря, я рассчитывал встретить большее сопротивление и потому соответственно подготовился. — Он ловит мою усмешку и сбавляет тон. — Я не горжусь своей победой. Но, так или иначе, я был длительное время погружен в тот же круг проблем, они как бы стали моими. Тогда мы с Ильей занимали во многом полярные позиции. Жизнь заставила пересмотреть мою, заставила меня вновь и вновь погружаться в материал, я сроднился с ним, он стал частью моей жизни… Можешь ты это понять?
Я угрюмо молчу, и мое молчание действует ему на нервы. В споре он чувствует себя увереннее.
— Не надо упрощать, — говорит он резко, хотя, видит бог, я ничего не упрощаю. — Не во всем Илья был прав, и не вся моя критика была сплошным заушательством. И теперь, когда я заново без предубеждения взглянул на работу Ильи, то понял: мы нужны друг другу. Обстоятельства сложились так, что ему без меня этой темы не поднять. Мы стали работать вместе, и сегодня уже трудно разобрать, что кому принадлежит…
— Вероятно, не так уж трудно. Была бы охота.
Я рассчитываю этой репликой смутить Николая Митрофановича, но она его только раззадоривает.
— Прости меня, но ты живешь отсталыми представлениями о природе авторства. Как будто мы живем не в век научно-технической революции, а в давно прошедшие времена, когда ученых было мало, приборы они делали сами, а на карте науки были сплошные белые пятна. Тогда с авторством было просто: Колумб открыл Америку, Ньютон — земное тяготение, Дарвин — естественный отбор, жрецы раскланивались друг с дружкой лично, письменно и через века. Научных трудов выходило мало, ежели какой-нибудь немец вычитывал что-нибудь у другого, он непременно писал: "Как указал достопочтеннейший имярек". Да и вся наука гнездилась на пятачке, вокруг десятка старых университетов. Наших гениев и самородков никто в расчет не брал, потому что уже тогда автором оказывался не тот, кто первый сказал "э!", а тот, кто оказался ближе к практическому использованию. Пойми, Олег, сейчас все другое, мир задыхается под лавиной научной информации, идеи носятся в воздухе и приходят в голову почти одновременно десяткам людей в разных концах света. Попробуй тут установить приоритет. Наука становится такой же отраслью производства, как и всякая другая. Уже становится нормой, когда высокое начальство — не важно какое, наш советский министр или директор консорциума — дает задание научному институту синтезировать к такому-то сроку энное вещество с такими-то заданными свойствами. И мужи науки, благословясь, наваливаются всем гамузом, пробуют и так и этак и в конце концов синтезируют. Так кто, по-твоему, автор этого вещества? Все. И тот, кто заказывал, и тот, кто направил поиски… Не в меньшей степени, чем тот младший научный сотрудник, который после сотни неудачных опытов натолкнулся на верное решение. Если, по-твоему, автор он, то тогда надо признать, что открыл Америку не Колумб, а тот матрос на мачте, кто первый крикнул: "Земля!" Скажешь, парадокс?
— Скорее софизм.
Нет ничего нелепее ходовой фразы "парадоксально, но факт". Почему "но"? Парадокс — истина в неожиданном обличье. "Гений — парадоксов друг"… Кто это сказал? Кажется, Пушкин. От Николая Митрофановича я в жизни не слышал ни одного парадокса, если бы хоть один родился в его мозгу, он удушил бы его в самый момент рождения. Все, что высказывает вслух мой почтенный оппонент, до отвращения правдоподобно, и мне не раз приходилось с трудом стряхивать с себя обволакивающую магию его софизмов. Можно только поражаться незаурядной способности Николая Митрофановича создавать удобные концепции для оправдания любой ситуации и любого поступка, нет такой передержки, которую он не сумел бы оправдать высшей целесообразностью. Николай Митрофанович умеет признавать ошибки и даже поражения, но решительно неспособен делать из них нравственные выводы. Он ошибается, как электромагнитная мышь в знаменитом опыте Шеннона, — меняет тактику, но не меняется сам.
— Я готов признать, что в пылу полемики… — начинает он.
— О какой полемике ты говоришь, — взрываюсь я. — Не было никакой полемики. Было хладнокровное избиение мальчишки, который даже не смел по-настоящему защитить себя. А теперь этот постаревший мальчишка работает на тебя в качестве интеллектуального негра, и за это ты, быть может, впоследствии поможешь ему стать на ноги. Но времена изменились, ученый с его талантом может обойтись без твоего покровительства, а если он еще этого не понимает, то ему объяснят.
— Понятно, — говорит Вдовин. Изображать душевное волнение ему уже ни к чему, голос его звучит сухо и трезво. — Будешь поднимать дело?
— Меня ваши дела не касаются. Но если Илье понадобится моя помощь, чтоб восстановить его диссертацию в первоначальном виде, я ему не откажу. Я, как ты знаешь, педант, все храню и ничего не выбрасываю.
Кажется, я нащупал слабое место в непробиваемой броне, впервые я ловлю в глазах Николая Митрофановича тревожный блеск. Они впиваются в меня, пытаясь разведать, правду ли я говорю. Он еще раз пробует выдавить улыбку и доверительную интонацию:
— Послушай доброго совета, Олег. Не встревай в семейные дела. Завтра Галина и Илья помирятся, и ты останешься в дураках.
Я молчу.
— Ну что ж, — говорит Вдовин. Лицо его опять становится жестким и непроницаемым. — Дело твое. Но имей в виду: есть люди, которым, вероятно, не понравится, что двое ученых, вместо того чтоб объединиться для общего дела, разводят склоку и выносят сор из избы. На радость всяким шавкам…
— Вероятно, найдутся люди, — говорю я, — способные разобраться, кто из них прав.
— Безусловно. Только не все держатся твоих устарелых взглядов. Допустим, я готовлю доклад и мне помогал референт — так чей, по-твоему, это будет доклад — мой или его? Ладно, Олег. — Вид у Николая Митрофановича такой, как будто я его утомил своими пустыми разговорами. — Соображай сам. С броней и машиной все в порядке, но я еще лично проверю. Привет Елизавете Игнатьевне.
Я уже стою на пороге, когда он, не удержавшись, пускает вдогонку:
— Передай — на нее я не в обиде. Я все прекрасно понимаю.
Ни возвращаться, ни разговаривать при открытых дверях у меня нет охоты, поэтому я только пожимаю плечами и, миновав стучащую на машинке Серафиму Семеновну, выхожу в сенцы. Дверь в парткабинет приоткрыта, я забираюсь туда и, только разглядывая Алешкину коллекцию грибов, начинаю проникать в смысл последних слов Николая Митрофановича. Конечно, это намек, в котором закапсулирована угроза: вступая в борьбу, помни — может возникнуть совсем неожиданная версия, например… На несколько секунд мной овладевает слепое бешенство, я готов ворваться к Вдовину и потребовать объяснений. Чтоб успокоиться, присаживаюсь к Алешкиному рабочему столу и беру в руки напечатанное на машинке письмо. Шрифт латинский, мелкий, похожий на курсив. Не в моих правилах читать чужие письма, но, судя по всему, это письмо на сугубо специальную тему, и я не совершаю явной нескромности. Польского я не знаю, но моей лингвистической интуиции хватает на то, чтоб уловить суть. Пишет какой-то несомненно серьезный биолог, специалист по этим самым грибам, благодарит за сообщение и в свою очередь чем-то делится. Алешку он именует "шановный пан профессор". Поручусь, что Алешка не выдает себя за профессора, зарубежный собрат просто не догадывается, что его высокоуважаемый коллега рядовой сотрудник заповедника, не имеющий даже ученой степени. Я читаю эти польские любезности и думаю об Алешке со злостью и восхищением: проклятый халдей, чтоб до такой степени не знать себе цены… За этим занятием меня и застает Алексей.