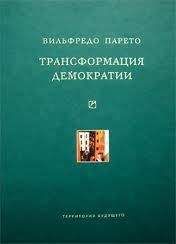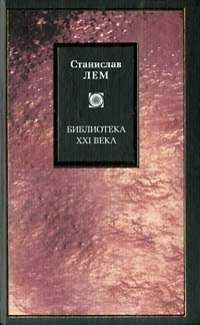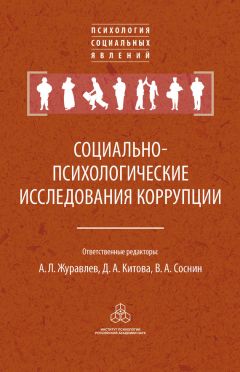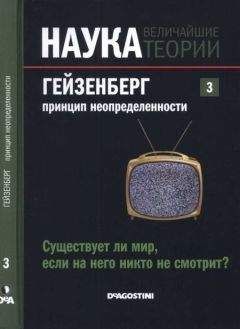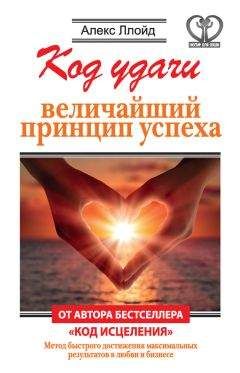Политическая коррупция в Третьем рейхе - Грибов Андрей Юрьевич
Не нужно быть военным гением, чтобы сравнить 15 тыс. намертво вмонтированных пушек, которые никуда невозможно перебросить оперативно, и 50 тыс. летающих «танчиков», которые за несколько часов, максимум за сутки, можно сосредоточить чуть ли не в любой точке Европы.
Ну и, конечно, самый интересный вопрос: а сколько же можно было украсть на таком проекте?
Историки пишут, что большая часть пушек не была изготовлена, а была снята с линии Зигфрида и линии Мажино. Часто использовался бесплатный труд заключенных концлагерей. Железобетонные конструкции были из сборных железобетонных блоков.
Сильно ли мы ошибемся, если предположим, что из 6,5 млрд рейхсмарок было украдено две трети — то есть около 4,2 млрд рейхсмарок? Что было равно приблизительно 1,8 млрд тех еще долларов, равных 1800 тоннам золота.
За такие деньги «Боинг» за время войны отдал в ВВС США около 13 000 «летающих крепостей», которые и разбомбили Германию и Японию.
Если бы Гитлер со Шпеером не воровали, а вложили бы деньги Третьего рейха в бомбардировщики и истребители, они гарантированно разбомбили бы и Англию, и СССР [67]. Но тогда бы они ничего не украли, а украл бы только Геринг.
А теперь еще раз попробуйте поставить себя на место Шпеера: что ему было выгоднее? Чтобы ни одна бомба не упала на территорию рейха? Радоваться успехам люфтваффе даром? Или задорого разгребать завалы и строить мегабункеры с подземными заводами?
Если задуматься, то именно это дает нам ответ на вопросы: а почему Гитлер финансировал ФАУ-2, а не ПВО в виде зенитно-ракетных комплексов «Вассерфаль», которые были в восемь раз дешевле ФАУ-2? Или зенитно-ракетные комплексы «Шметтерлинг», которые были в 20 раз дешевле ФАУ-2? Или те же истребители «Мессершмитт-109», которые были в 4 раза дешевле ФАУ-2 и реактивных истребителей «Мессершмитт-262»?
«Совершенно новые проблемы [68], естественно, возникли и на широких просторах недостаточно обжитых (по западным понятиям) восточных районов.
1. Усиление проезжей части тысяч километров грунтовых и проселочных дорог и превращение их в мощные автогужевые дороги с современным тяжелым каменным или асфальтовым покрытием.
2. На северном и центральном участках фронта, где из-за отсутствия твердого грунта нельзя было строить автогужевые дороги, приходилось сооружать бревенчатые гати и щитовые дороги, используя на это миллионы стволов деревьев.
3. Было построено большое количество мостов, причем многие из них имели такие огромные пролеты, какие до сих пор вообще не встречались в подобных деревянных конструкциях [69].
4. Была даже начата стройка Крымского моста! «Весной 1943 года Гитлер потребовал начать строительство пятикилометрового моста через Керченский пролив [70], — вспоминал министр вооружений Третьего рейха Альберт Шпеер. — Здесь мы построили подвесную дорогу, которая была пущена 14 июня 1943 года и доставляла каждый день тысячу тонн груза» [71]. Но ни танки, ни бронеавтомобили, ни артиллерию по такой дороге не перебросишь. Поэтому Гитлеру нужен был мост для переброски тяжелой техники. Шпеер приступил к выполнению приказа фюрера, но успел только завезти стройматериалы, узлы и конструкции будущего моста.
5. А восстановление разрушенной Днепровской плотины в Запорожье следует рассматривать как особое достижение, равноценное самым сложным инженерным сооружениям Запада.
6. Для того чтобы расширить сеть русских железных дорог, не обеспечивавших регулярного снабжения немецких войск, необходимо было не только перешить их с широкой колеи на нормальную европейскую, но и построить новые магистральные и полевые железные дороги.
7. Разрушенные в результате военных действий заводы тяжелой промышленности на Днепре и в Донбассе были полностью восстановлены и пущены в эксплуатацию [72].
«Чтобы более или менее правильно оценить проблемы, стоявшие перед строителями — членами Организации Тодта, нужно вспомнить о тех, несомненно, колоссальных трудностях, которые обременяли нас именно на восточном и юго-восточном участках фронта. Это были, прежде всего, ненормальные, по нашим понятиям, климатические условия; это были трудности, связанные с доставкой материалов, машин и оборудования с баз, расположенных в Германии и отдаленных иногда на несколько тысяч километров, по ненадежным и часто выходившим из строя путям подвоза; это были трудности, вызванные необходимостью, не прибегая ни к чьей помощи, собственными силами защищать от партизанских налетов все строительные участки, места расквартирования рабочих, транспорт и склады материалов и оборудования» [73].
«Действия войск и снабжение их в горных условиях (на Балканах и в Норвегии) поставили организацию Тодта перед таким объемом строительных работ, который в нормальных условиях в самой Германии потребовал бы для своего завершения не одно десятилетие. При этом надо учесть, что особые климатические условия северных областей Норвегии и Финляндии в значительной степени затрудняли планирование и проведение строительных работ» [74].
К обширным и многосторонним фронтовым задачам Организации Тодта во второй фазе войны Шпеер прибавил еще и задачи в тылу: ликвидация последствий воздушных налетов противника и строительно-технические мероприятия, связанные с переводом особо важных промышленных предприятий в более надежные помещения. В период с 1942 года до конца войны на службе Организации Тодта находилось около 1,4 млн рабочих.
Понятно, что разбирать завалы Шпееру было непатриотично, зато очень выгодно. Ничего вам эта схема не напоминает?
Пункт первый: выделить деньги на строительство.
Пункт второй: применить все возможные надбавки и коэффициенты (северный коэффициент, коэффициенты бездорожья, длинной логистики, работы в особо опасных условиях и т. д.).
Пункт третий: что-то построить.
Пункт четвертый: в ходе войны уничтожить.
Пункт пятый: в ходе отступления взорвать.
Вуаля! И проверить, сколько всего построено, невозможно, поскольку все взорвано.
Пусть читатель сам попробует узнать, сколько линий обороны построил Шпеер в России, а главное — от границы Польши с Россией до Зееловских высот. Сколько он укрепил городов-крепостей, так называемых фестунгов, типа города Кольберг или города Кюстрин.
Когда читатель сам попробует понять и посчитать, тогда у него появится самостоятельный ответ.
Не стоит переоценивать и степень влияния рейхсминистра на военную промышленность Германии до 1944 года [75]. Когда Шпеер принял пост от сгинувшего Тодта, в его руках, помимо всех строительных работ для вермахта, было лишь управление материальными поставками для армии, и только в сфере боеприпасов он контролировал вермахт, кригсмарине и люфтваффе [76].
Управление вооружениями люфтваффе до весны 1944 года возглавлял соратник Геринга Эрхард Мильх (его предшественник на этом посту Эрнст Удет тоже плохо кончил — застрелился) [77]. «А это был пирог в 40 % оружейной промышленности Третьего рейха — немцы делали большие ставки на эффективность своей боевой авиации. По расчетам, только половина всего роста военной промышленности с февраля 1942 года по лето 1943 года принадлежит ведомствам, подконтрольным Альберту Шпееру. 40 % приходится на авиационную отрасль, а остальное — на кригсмарине и химию» [78].