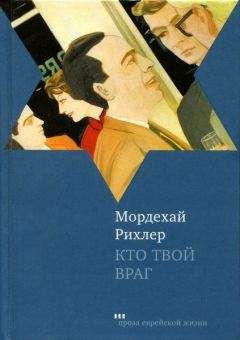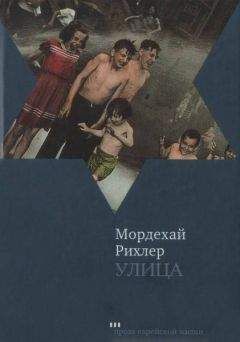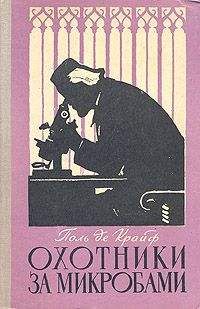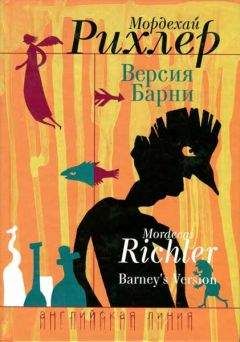Мордехай Рихлер - В этом году в Иерусалиме
У нас с отцом случались стычки, и нешуточные. Вскоре после того, как брак моих родителей аннулировали, я подрался с отцом. Мы отходили друг друга. Два года не разговаривали. Потом помирились, встречались раз в неделю, но никаких разговоров не вели, играли в кункен по четверти цента за очко. Отец — такое у меня родилось подозрение — не был скрытным. Он не понимал жизни. Ему было нечего сказать.
В 1954-м, через некоторое время после моего возвращения в Европу, где я застрял на двадцать без малого лет, я женился в Лондоне на шиксе. Отец написал мне возмущенное письмо. Мы снова разошлись. Но мой брак кончился разводом, и отец торжествовал:
— Говорил же я тебе: смешанные браки хорошо не кончаются.
— Пап, твой первый брак тоже плохо кончился, а мама — дочь раввина.
— Что ты понимаешь!
— Ничего. — Я обнял его.
Когда я женился снова, на этот раз бесповоротно, но опять на шиксе, он не пришел в восторг, но и не роптал. После стольких пропащих лет к этому времени мы наконец подружились. Отец стал мне сыном. Когда-то он посылал мне деньги в Париж. Теперь, так как дедова свалка прекратила свое существование, я каждый месяц посылал ему чек в Монреаль. Наезжая домой, водил его в рестораны. Покупал ему всякие разносолы. Если он вел меня в воскресенье на сборище рихлеровского клана, он не забывал прихватить с собой шотландское виски, предварительно перелив его в бутылку из-под «Севен-ап».
— Там тебе нечего будет выпить, а я тебя знаю.
— Это, пап, ты здорово придумал.
В шестидесятые я как-то ненадолго прилетел в Монреаль. Мои издатели сняли для меня номер в отеле «Ритц-Карлтон»[87]. И я пригласил отца в отель — выпить со мной.
— Знаешь, — сказал он, садясь за столик, — мне шестьдесят два, а я здесь в первый раз в жизни. В смысле внутри. Так вот он какой — «Ритц».
— Это же всего-навсего бар. — Я смутился.
— Что тут полагается заказывать?
— Что хочешь, пап.
— Ржаное виски с имбирным элем. Это будет прилично?
— Разумеется.
Что от него осталось — неразгаданные тайны. Чувство жалости. Анекдоты — я буду наводить на них лоск.
Моя жена, гордая мать, показала отцу нашего первенца — ему исполнилась неделя от роду, и он вопил-надрывался — со словами:
— Правда, он похож на Мордехая?
— Ребенок, он ребенок и есть, — сказал отец, по-видимому вполне безразлично.
Спустя несколько лет отец, приходя к нам, раздавал детям шоколадки.
— Ты кого больше любишь, — допытывался он, — папу или маму?
В середине шестидесятых я пригласил отца в Лондон, оплатил его перелет. Он прилетел с женой. Вместо того чтобы улизнуть с ним в «Уиндмилл»[88], «Реймондс-ревю бар» или в другое заведение со стриптизом, я — дурак, он и есть дурак — купил билеты в театр. Мы повели отца с женой на «За рамками»[89].
— Как тебе? — спросил я после спектакля.
— Подтанцовки не хватает.
Когда его в последний раз оперировали — у него был рак, — я прилетел в Монреаль, пообещал: как только он встанет, поеду с ним в Катскиллы. В «Гроссингер». С остановкой в Нью-Йорке — сходим на кое-какие шоу. Я вернулся в Лондон, и каждый раз, когда я звонил, его врач советовал мне подождать с приездом. Я ждал. Отец умер. В следующий раз я прилетел в Монреаль похоронить его.
Германия, 1978
Пер. Л. Беспалова
Мне позвонил чиновник из Министерства иностранных дел в Оттаве и сообщил: конечно же, во Франкфурте меня встретят.
— Отлично, — сказал я.
— Как вас узнают?
— Что ж, — дерзнул ответить я, — я могу — как положено — надеть желтую повязку.
Мой ответ его не рассмешил.
Было это в ноябре 1978-го, Министерство иностранных дел направило меня в Германию. Летел я туда внедрять канадскую культуру, мне предстояло прочесть лекции в семи университетах — шести западногерманских и одном австрийском. Возможности съездить в Германию я обрадовался и в то же время был настороже. До этого мне случилось дважды побывать в Германии. В первый раз в 1955-м — тогда я полгода прожил в Мюнхене, где мой в ту пору лучший друг, чокнутый немецкий джазмен, играл в одном оркестре в Швабинге: Fusswarmers[90] с Оакум-стрит. Во второй раз я посетил Германию проездом из Лондона, направлялся с Флоренс и трехлетним Дэниелем в Рим — провести там зиму.
В 1955-м немецкие города, разрушенные бомбардировками союзников, все еще восстанавливали. Мюнхен днем и ночью сотрясал грохот пневматических сверл. Невозмутимые, целеустремленные немцы — не то что их британские коллеги — никогда не прерывали работу, чтобы попить чайку. Или забастовать. Немецкая девушка, которую я пригласил поужинать, рассказала мне, как их с братом заставили вступить в гитлерюгенд.
— Не могу вам передать, что это было за кошмарное время, — сказала она.
— Я, знаете ли, еврей.
— По вам никогда не скажешь, — удивилась она.
Четыре года спустя мы с Флоренс вынуждены были признать, что и Рейн, и замки, выступающие из мглы, — само очарование, в деревенских гостиницах, где мы останавливались, супы были выше всяких похвал, а их хозяева неизменно милы с Дэниелем. Сердца наши умягчились. Но вот как-то вечером, когда мы ужинали в на редкость gemütlich Gasthaus[91], за соседней дверью грянули песню. Официант открыл двойные двери, ведущие в отдельный кабинет, и нашим глазам предстало сборище старых вояк. Эти раздобревшие, благодушные, с виду степенные деревенские жители пели «Хорста Бесселя»:
Знамена ввысь! В шеренгах плотных, слитых
СА идут спокойны и тверды…[92]
Во Франкфурте меня встретил канадский чиновник Арт Рейнер, небрежно одетый житель Виннипега средних лет. Я сразу расположился к нему. Мы откочевали в бар: до поезда на Трир, где мне предстояло читать первую лекцию, осталось два часа и их предстояло как-то убить.
— Воевали? — спросил я.
— Я попал в плен в битве за Дьепп[93].
— А разве на вас не надели наручники?
— Ну да, на какое-то время и наручники надели, и в кандалы заковали. Я провел в плену два года.
— В таком случае какого черта вы тут?
— А что, страна как страна. Есть хорошие люди, есть и плохие.
Глянув на счет, я от удивления присвистнул.
— Вы увидите — здесь все очень дорого. У немцев, у японцев — вот у кого сейчас денег навалом. Дикость какая-то.
По дороге в Трир, на родину Карла Маркса, мне предстояло сделать пересадку в Кобленце, куда в декабре 1944-го Гитлер стянул танковые войска для операции, известной как Битва в Арденнах. Эта операция имела целью разрезать Третью армию США и оттеснить канадцев и англичан к бельгийско-голландской границе. Руководил этим последним отчаянным ударом в числе прочих генерал СС Зепп Дитрих[94] — впоследствии его приговорили к двадцати пяти годам тюрьмы за резню американских солдат, последовавшую за операцией. Мой друг Джон Дуги участвовал в этой битве. По дороге к фронту, рассказывал Джон, им то и дело попадались трупы американских солдат, во множестве лежавшие по обочинам дорог, у одних были отрублены ноги, у других вспороты животы, а в это же время мимо них в лагерь военнопленных за линией фронта вели колонны немцев. Разъяренный солдат разбил одному из немцев лицо прикладом винтовки.
— До этого времени мы не испытывали к ним ненависти, — рассказывал Джон, — но война, как мы считали, была практически выиграна. Так к чему эта напрасная бойня? Нас обуяла ярость, мы налетели на немцев, дубасили их винтовками.
В Трире — он раскинулся в долине Мозеля — сохранились лучшие памятники римской эпохи в Германии. И сегодня, когда река мелеет, профессора и студенты процеживают ил в поисках монет, ваз и прочих артефактов. Поздно вечером я зарегистрировался в отеле «Вайнхоф Петрисберг», взиравшем с высокого горного склона на город и реку.
После проведенного в пути дня мне захотелось помыться, но мыла в ванной, к моему удивлению, не нашлось.
— Ну да, вы же иностранец, — сказала хозяйка гостиницы. — Немецкие отели мылом не обеспечивают.
Все же она принесла мне брусочек мыла величиной со спичечный коробок. Оно и понятно, почему у них нехватка мыла, подумал я: жир, вытапливаемый из евреев — главный источник, — иссяк.
Не в силах заснуть, я стал читать «Интернэшнл геральд трибюн» и в ней обнаружил доказательства — требовались ли они? — что в убийстве шести миллионов повинны не одни немцы. Седьмого ноября в Гааге Вим Аантьес[95], парламентский лидер голландской правящей партии Христианско-демократический призыв, подал в отставку: причиной ее послужил доклад, доказывавший, что во время оккупации Нидерландов он состоял в СС.
Репортер разыскал Луи Даркье де Пеллепуа в Мадриде, где тот проживал в роскошных апартаментах. Восьмидесятилетний Даркье, приговоренный французским судом in absentia[96] к смерти, в войну был уполномоченным правительства Виши по еврейским делам. Нам пришлось депортировать французских евреев, разъяснил он репортеру, чтобы «очистить страну от этих чужаков, этих полукровок, этих миллионов людей без гражданства, этих людей, навлекших на нас всяческие бедствия. Евреям была нужна война, и они втянули нас в войну. Нам пришлось как можно скорее очистить от них страну». Когда Даркье указали на то, что в газовых печах Аушвица погиб миллион евреев, Даркье ответил: «Евреям лишь бы привлечь к себе внимание — на что только они не идут ради этого. Да, они (немцы) применяли газ, но газом они истребляли вшей. Когда евреи прибывали в лагерь, им, перед тем как принять душ, приказывали раздеться — как же иначе? Их одежду тем временем дезинфицировали. А после войны евреи повсюду распространяли фотографии, на которых были сняты груды одежды… и скулили: „Смотрите, это исподнее наших убитых собратьев“».