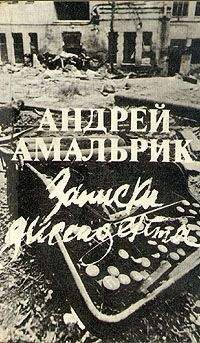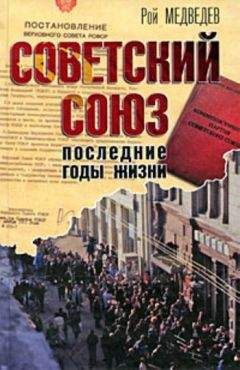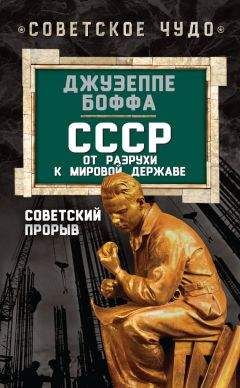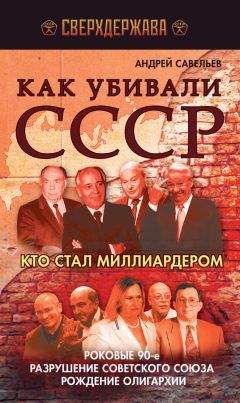Андрей Амальрик - Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?
10
Сейчас, в период "эскалации репрессий" со стороны режима, оно, видимо, пойдет на убыль - часть участников Движения сядет в тюрьму, а часть отойдет от Движения, - однако, как только давление ослабеет, число участников может быстро пойти вверх.
11
Таким образом, его начало можно отнести к 1968 году. Но попытки массовых легальных действий имели место и раньше, по-видимому с 1965 года: демонстрация 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем (участвовало около 100 человек, никто не был арестован, но группа студентов исключена из Московского университета); коллективные письма в правительственные инстанции в 1966 году с просьбами о смягчении участи Синявского и Даниэля, а также коллективное письмо против попыток реабилитации Сталина и коллективное письмо против введения новых статей в Уголовный кодекс (1901 и 1903), подписанные видными представителями интеллигенции (видимо поэтому никаких заметных репрессий не было); демонстрация 22 января 1967 года на Пушкинской площади с требованием освобождения арестованных за несколько дней перед тем Галанскова, Добровольского, Дашковой и Радзиевского (участвовало около 30 человек, пятеро было арестовано и четверо осуждено на срок от 1-го до 3-х лет по нововведенной ст. 1903 УК).
12
В абсолютных числах это выглядит так: ученых - 314 (докторов - 35, кандидатов - 94, без степеней - 185); деятелей искусства - 157 (членов официальных союзов - 90, не членов - 67); инженеров техников - 92 (инженеров - 80, техников -12); издательских работников, учителей, врачей, юристов - 65 (редакторов - 14, служащих - 14, учителей - 15, врачей - 9, юристов - 3, лиц тех же профессий, вышедших на пенсию - 7, мастер спорта 1, священник - 1, председатель колхоза - 1); рабочих - 40; студентов - 32. Подсчет этот, впрочем, носит не всегда достоверный характер и потому приблизителен. Я произвел его по "Процессу четырех" - сборнику документов до делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Дашковой, составленного и прокомментированного Павлом Литвиновым. Я учитывал каждого человека только один раз, вне зависимости от того, под сколькими заявлениями или протестами он подписался. Я думаю, что если подсчитать число подписавших все заявления и письма с требованием соблюдения законности, начиная с писем по делу Синявского И Даниэля (1966) и кончая протестом против ареста генерала Григоренко (1969), то оно окажется более тысячи (учитывая людей, а не подписи).
13
Я имею в виду, что научная работа требует, как правило, большой отдачи сил и полной сосредоточенности, привилегированное положение в обществе предостерегает от рискованных шагов, а воспитанное наукой мышление носит скорее умозрительный, чем прагматический характер. Хотя рабочие представляют сейчас гораздо более консервативную и пассивную группу, чем ученые, я вполне могу себе представить через несколько лет крупные забастовки на заводах, но вот забастовку в каком-либо научно-исследовательском институте вообразить себе не могу.
14
Регулярную хорошую пищу, хорошую одежду, кооперативную квартиру с хорошей обстановкой и иногда даже автомобиль, и, разумеется, какие-то развлечения.
15
Например, способностью слушать серьезную музыку, или интересоваться живописью, или регулярно ходить в театр.
16
Это опять же видно из анализа авторов и участников различного рода петиций и протестов по делу Галанскова-Гинзбурга. Я не хочу тем самым конечно сказать, что весь "средний класс" стал на защиту двух "отщепенцев", а только, что некоторые представители этого класса уже ясно осознали необходимость правопорядка и стали, с опасностью для себя лично, требовать его от режима.
17
Это устранение, как в форме эмиграции и высылки из страны, так и тюремного заключения и физического уничтожения коснулось всех слоев нашего народа.
18
С другой стороны, тот, кто издает приказы, тоже лишается чувства ответственности, поскольку нижестоящий слой чиновников рассматривают эти приказы уже как "хорошие", раз они исходят сверху, и это порождает у властей иллюзию, что все, что они делают, - хорошо.
19
Отсюда многие явные и неявные протесты в СССР принимают характер недовольства младшего клерка тем, как к нему относится старший. Особенно наглядно это видно на примере некоторых писателей, имена которых употребляются на Западе как эталон "советского либерализма". Они склонны рассматривать свои права и обязанности не как прежде всего права и обязанности писателя, а как права и обязанности "чиновников по литературной части", пользуясь выражением одного из героев Достоевского. Так, после известного письма Солженицына о положении советских писателей московский корреспондент "Дейли Телеграф" г-н Миллер в частной беседе спросил известного советского поэта, намерен ли он присоединиться к протесту Солженицына. Тот ответил отрицательно. "Поймите, - сказал он, - положение писателя - это наше внутреннее дело, это вопрос наших взаимоотношений с государством". То есть он рассматривал все не как вопрос писательской совести и морального права и обязанности писателя писать то, что он думает, а как вопрос внутрислужебных отношений советского "литературного ведомства". Он тоже протестует, но он протестует как мелкий чиновник - не против ведомства как такового - а против слишком низкой заработной платы или слишком грубого начальника. Конечно, это "внутреннее дело" - и оно не должно интересовать тех, кто к этому ведомству не относится. Этот любопытный разговор произошел в одном из московских валютных магазинов.
20
Которое понимается уже как самосохранение бюрократической элиты, ибо для того, чтобы удержаться режиму - он должен меняться, а для того, чтобы удержаться самим - все должно оставаться неизменным. Это видно, в частности, на примере так затяжно проводимой "экономической реформы", в общем-то так нужной режиму.
21
Например, принятие в 1961 году не внесенного в Уголовный кодекс указа о пятилетней ссылке с принудительным трудоустройством для лиц без постоянной работы или расширение меры наказания за валютные операции вплоть до расстрела, с фактическим приданием этому указу обратной силы.
22
Например, общение советских граждан с иностранцами, занятие немарксистской философией и несоцреалистическим искусством, попытка издания каких-либо литературных машинописных сборников, устная и писаная критика не системы в целом, что предусмотрено ст. ст. 70 и 1901 УК РСФСР, а лишь отдельных учреждений системы и т. д.
23
Это породило два таких любопытных явления, как массовые внесудебные репрессии и выборочные судебные. Ко внесудебным репрессиям прежде всего следует отнести увольнение с работы и исключение из партии: например, в течение одного месяца было уволено свыше 15% всех лиц, подписавших разного рода петиции с требованием соблюдения законности на процессе Галанскова/Гинзбурга, и почти все члены КПСС исключены из партии. Выборочные судебные репрессии имеют целью запугать всех тех, кто в равной степени мог бы им подвергнуться, поэтому человек, совершивший с точки зрения режима даже более криминальные поступки, может остаться на свободе, тогда как человек менее виновный сесть в тюрьму, если его осуждение требует меньших бюрократических усилий или по конъюнктурным соображениям представляется более желательным. Характерный пример: суд над московским инженером Ириной Белогородской (январь 1969). Она обвинялась в "покушении на распространение" признанного судом "антисоветским" воззвания в защиту политзаключенного Анатолия Марченко и осуждена на 1 год. Вместе с тем авторы этого воззвания, публично заявившие, что они его составили и распространяли, даже не были вызваны в суд как свидетели. Так же получает все более широкое распространение такая омерзительная репрессивная мера, как принудительное помещение в психиатрическую больницу. Оно применяется как к лицам с легким психическим расстройством, не нуждающимся в госпитализации и принудительном лечении, так и к совершенно здоровым людям. Как мы теперь видим, существование "сталинизма без насилия" по мере выветривания в людях страха перед прежним насилием неизбежно приводит к насилию новому: сначала "выборочным репрессиям" против недовольных, затем "мягким" массовым репрессиям, а что затем?
24