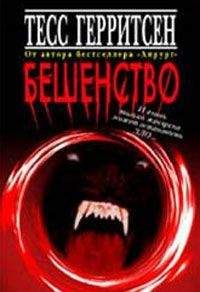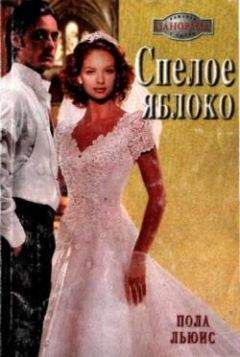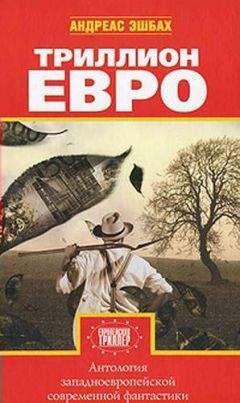Евгений Головин - Сентиментальное бешенство рок-н-ролла
На становление и развитие европейской рок- культуры повлияли заокеанский рок-н-ролл (Элвис Пресли, Поль Анка и др.) и хэппенинг Джона Кейджа, чего нельзя сказать о русской вариации этой культуры. Трудно говорить и о каком-то отечественном влиянии: советские оркестры традиционного джаза, советская эстрада, где кривлялись ошеломленные собственной красотой певички и монументально вздымались оторопелые от собственного величия певцы, — все это ни на кого не могло повлиять. Все это было вполне в духе общего коммунистического китча, уровень конферанса и кордебалетной работы ногами редко превосходил уровень немецких варьете, известных по старым фильмам. Так что юным начинателям отечественного рока приходилось учиться, в основном, по магнитофонным записям. Пожалуй, за единственным исключением: на молодых людей рождения пятидесятых — шестидесятых, безусловно повлиял Владимир Высоцкий — явление в Совдепии совершенно уникальное в смысле энергетики, самоотдачи и полного наплевательства на какие-либо шаблоны. Остальные же советские «барды» из-за своей крайней политизированности, туристической или «задушевной» лиричности, никак не могли соответствовать резкой экспансии рока.
Дождливым осенним вечером, кажется, году в семьдесят девятом, я отправился на выступление рок-гуппы. Трюхающий впереди долговязый малый орал "Тополя, тополя", размахивал руками, синкопировал ногами, вычерчивая резкие интервалы, и, наконец, свалился в лужу перед освещенным подъездом клуба. Две девицы, шедшие позади, ловко перепрыгнули через раскинутое тело, каблук одной чуть было не пригвоздил ухо к мостовой. Небольшой зал низким амфитеатром пропадал в грязных штофных обоях. На сцене застенчивый пианист организовывал говорливую тишину каким-то ритмичным арпеджио. Солист, быстрый, в кожаных штанах, стремительно остановился на краю сцены и проникновенно запел блюз про сигарету с долгими паузами на эффектных словах: я курю… сигарету… пью дымящийся… кофе…
Недалеко от меня сидел парень с девушкой, его пальцы прыгали в неистовом стипл-чезе: старт — колено девушки, финиш — прическа. Солист пребывал в новой паузе после трагического "сигарета потухла…" и, воздев руки, искал другую где-то на потолке. Худой и мрачный Василий Шумов отложил бас-гитару и закурил. Мой сосед на радостях тоже закурил и принялся хрипловато шептать девушке нечто вроде"…ты пойми, бля… я же в натуре, бля… поняла…" Сигарета выпала изо рта, кто-то поднял, ухмыльнулся, "…ничего себе, кэмелом швыряется", пианист забарабанил, группа заиграла оживленней. Рок-н-ролл. Мандариновые корки, визги, хохот, "давай о дарлинг, давай ю неве гив ми", два мента волокут пьяного, видны его красно-грязные подошвы, советский рок-н-ролл…
Через пару лет после этого Василий Шумов собрал свою группу «Центр», название коей весьма будировало рок-лабораторию курчатовского ДК, напоминая отечественные фильмы про войну, где одноименной группе изрядно-таки доставалось. Потом об этой группе (Василия Шумова, понятно, не фельдмаршала фон Бока) написали в книжке "Кто есть кто в советском роке": "Одна из самых популярных групп любительской рок-сцены Москвы начала восьмидесятых" и далее: "…в целом «Центр» оставался центром творческих экспериментов и генезиса эстетических концепций певца, гитариста и композитора Василия Шумова". Второе замечание, безусловно, справедливо, что касается многозначного понятия «популярности»… Вероятно, это понятие связано с "пафосом балдежа и экзальтированного единения масс под музыку", — как выразился А. Троицкий в "Золотом подполье". Этот же автор замечает: "Я много раз бывал на их концертах и каждый раз, с момента появления группы на сцене, в зале возникало чувство настороженности". Это уже популярность другого плана. Если Василий Шумов, по сути своей, "мастер беспокойного присутствия", значит к его работе и к его творческим тенденциям трудно отнести чуть ли не ежегодно меняющиеся знаковые отличия концертирующих рок-групп: «панки», "постпанки", "новая волна", "нейтральный электронный поп" и т. д. Определения такого рода имеют, скорее, статистический смысл, нежели какой-нибудь иной, они отмечают социальную рецепцию, но не индивидуальный творческий характер.
Поразмыслим о Василии Шумове — о других участниках группы «Центр» говорить трудно: с восьмидесятого по девяностый год состав часто менялся, а затем Шумов вообще уехал из России. Он — ярко выраженный лидер группы, что, кстати говоря, совсем необязательно: есть много очень качественных групп без такой фигуры. Насколько я знаю, в «Центре» не было особо выдающихся музыкантов, что для России даже и неплохо, поскольку часто ведет к ссорам и конфликтам. В известных западных группах, связанных с большим бизнесом, дело обстоит иначе: к примеру, Рик Уикмен или Мак-Лафлин вполне уживались с руководителями и менеджерами, особо не задирая нос. Но в России, увы, необходима "сильная рука", особенно если учесть неважную материальную ситуацию рок-музыкантов. Удивительно, как Шумову удалось сколотить состав, исполнять, в общем и целом, «некоммерческую» музыку. Очевидно, это потребовало массы усилий и нервов. Потому, вероятно, он и прослыл жестким, малосимпатичным руководителем. Наконец, мы добрались до его характера и линии поведения. Но здесь и закончим. Подобный анализ, вероятно, необходим в беллетристике, где автор придумывает героя, однако в жизни он мало оправдан. Можно плохо или хорошо истолковать социальное «я», то есть разные отражения человека в общественной поверхности, но самый оригинал, индивид так или иначе остается непонятным. Он и для себя-то не очень понятен. Люди обычно сталкиваются с этим, когда пишут «автобиографию» для отдела кадров, пишут словно бы в третьем лице, словно бы о ком-то другом.
Разумеется, всегда можно втиснуть в текст репортаж о каком-либо казусе или разговоре. Например: "Позвонил Вася, радостно сообщил о покупке нового костюма и пригласил зайти посмотреть. Захожу, вздыхаю: что на сухое горло смотреть. Выпили по стакану, по второму, разговорились о бабах и деньгах. К вечеру собрался уходить, спохватился: покажи костюм. Вася идет к шкафу, дверца с тягостным хрипом раскрывается. Вася поворачивает белое как мел (простыня, подвенечное платье) лицо: костюм весь в крови…" Чушь, скажут, какая-то. Почему? Обычное звено в жизненной цепи. Очень даже может такое случиться, хотя данное «звено» взято из фильма другого "мастера беспокойного присутствия" — Альфреда Хичкока. Мораль сей басни следующая: любое, сколь угодно «правдивое» описание поступков и разговоров другого человека будет всегда ложным до фантазма, поскольку "пространство языка, — по словам Людвига Витгенштейна, — никогда не совпадает с пространством жизненно-физическим". Да и сам «другой» редко способен сообщить о себе нечто интересное или точное. Как известно из басни Эзопа, мешок со сведениями об окружающих каждый носит на груди, мешок со сведениями о себе — на спине. Трудно лазить за спину и наугад чего-либо вытаскивать. К примеру, Василий Шумов поет в песне "Гуд, я еду в Голливуд" (альбом "Голливудский василек"):
В 361-ой школе
Был я Вася-пионер…
Теперь в Голливуде
Я не белый и не негр…
В Измайловской милиции
Обращались со мной на «вы»…
Попробуй проверь эти сведения. Да и если они точны, не все ли равно, был Василий Шумов пионером или нет? Суммируем данные, полученные из нашего текста: Василий Шумов, лицо бледное, глаза карие, жестикуляция неторопливая, лицо правильное, деловые качества хорошие, пионер, бас-гитарист, певец в манере Sprechgesang (напевное говорение), принадлежит к белой расе, теперь в Голливуде "не белый и не негр", мулат, возможно… потусторонний шофер Володя куда-то возил его на микроавтобусе… Стоп. Это уже другой Василий Шумов, о котором размышлять куда интересней, судя по его песне под названием «Человек» (альбом "Сделано в Париже").
На фотографии знакомый человек,
Я смотрю на него.
На стуле висит его свитер,
Я трогаю его.
Далее речь идет о бытовых контактах автора с "этим человеком". И затем любопытные строфы:
Этот человек сочиняет песни,
У меня есть его записи.
Вечером приходит его жена,
И я разговариваю с ней.
Я иду на работу,
Он рядом со мной,
Я падаю в воду,
Он остается сухой.
Текст развивается размеренно и спокойно, неожиданность поджидает ближе к концу:
На столе лежит записка —
Это написал мне он,
Вы спросите: "Кто этот человек?"
Этот человек — я.
Итак, тот, кто пишет записку, сочиняет песни — некто другой. "В человеческом теле могут жить разные существа", — писал Новалис. Но здесь дело ясное — живет именно «человек», очевидно, индивид в социальном существе, в "public animal". Шизофрения? Романтика? Нет. Двойник — сущность совершенно реальная, иногда наш «некто» более значителен, а мы — его бледная тень. Из бесчисленных историй о двойниках стоит упомянуть одну, рассказанную вполне рациональным субъектом — космонавтом Армстронгом (американский ежегодник «Ипсилон» за 1972 год). Речь идет о прогулке по лунной поверхности: "У меня было ощущение, что за мной кто-то идет. Неужели здесь все-таки есть живые существа? Обернулся и похолодел — метрах в тридцати по моим следам шел… я сам — босиком, в купальном халате, улыбаясь и махая рукой. Я заставил себя отвернуться и двинуться дальше, но видит Бог, чего мне это стоило. "Фантом исчез, не отразившись на пленке, да и к нашему случаю это не имеет касательства. Так, к слову пришлось.