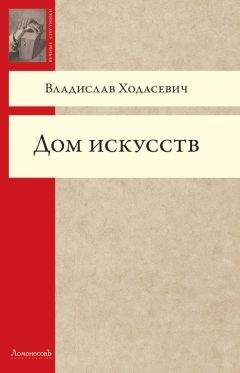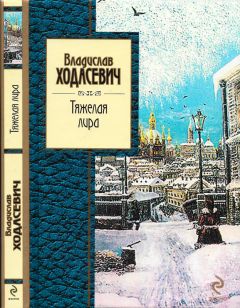Владислав Ходасевич - Об Анненском

Обзор книги Владислав Ходасевич - Об Анненском
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ[1]
ОБ АННЕНСКОМ
(Читано в Петербургском Доме Искусств на вечере, посвященном памяти И.Ф.Анненского, 14 декабря 1921 г.)
I
Хорошим поэтом, мастером, с некоторых пор почитается у нас тот, кто умеет наиболее цельно, отчетливо, определенно «выразить» или «выявить» себя. Что же касается того, что именно «выявляется», какое «я» выражается в этом «себя», — такой вопрос чаще всего не подымается вовсе. Он не в моде. В лучшем случае требуют, чтобы это поэтическое «я» было «оригинально», то есть не похоже на другие, так сказать — соседние «я». В конечном счете это есть следствие грубого, механического отсечения формы от содержания, причем все внимание ценителя обращено на форму.
Мне доводилось слышать немало восторженных суждений о поэзии Анненского. Но чем восторженней были поклонники почившего поэта, тем больше говорили они о форме его поэзии, тем меньше — об ее смысле. Будучи сам почитателем Анненского, я не возражал против самых высоких оценок. Но, слушая, отчетливо ощущал их односторонность. Говорили недоговаривая. Точнее — молчали о самом главном.
С поклонниками Аннинского слишком часто происходит то самое, что, покуда он жив был, происходило с его сослуживцами. Глядя на его форменный сюртук, говорили они почтительно: действительный статский советник. Но Анненский про себя понимал иначе: поэт. Знал, что его содержание (поэт) не равно форме (форме министерства народного просвещения). Содержание же разлагало форму, взрывало ее изнутри. В стихах Анненского всего менее можно угадать лицо директора царскосельской гимназии. Сослуживцы этого не знали.
Благополучные эстеты (парнасские сослуживцы) не видят, что значит поэзия Анненского, — или не хотят видеть. За его лирикой не слышат они мучительной, страшной человеческой драмы. Что и о чем говорит поэзия Анненского — это их, в сущности, не касается. Они рукоплещут «форме». Форма у Анненского остра, выразительна, часто изысканна. Следственно, Анненский — мастер, «ваше превосходительство», и все обстоит благополучно. Однако и здесь, как в жизни Анненского, из благополучного как рвется наружу неблагополучное что. Но эстеты верны себе. Спокойные, не омрачаемые сомнениями вивисекторы жизни (ибо поэзия — жизнь, а поэт — человек), они удовлетворенно констатируют, что вот у этого человека, Иннокентия Анненского, превосходнейшие голосовые связки. Реагируя на боль (которая их не касается), он проявляет все, по их мнению, необходимые качества мастера, потому что кричит чрезвычайно громко и выразительно. Но отчего он кричит — все равно им. Что кричит — это его частное дело, в которое они, люди прежде всего воспитанные, не вмешиваются. Так, вероятно, не вмешивались в частные дела И.Ф. Анненского его сослуживцы по министерству. Между тем — он кричит об ужасе, нестерпимом и безысходном.
Мы поминаем сегодня не действительного статского советника (хотя бы и от литературы) — а поэта, человека, «раба Божия». И потому скажем несколько слов об его ужасном страдании.
II
Толстовский герой Иван Ильич Головин, член судебной палаты, прожил всю жизнь совершенно прилично, как все: учился, женился, делал карьеру, рожал детей, — и не думал о том, к чему он все это делает и чем это кончится. В особенности не думал он о конце, о смерти, даже когда заболел и слег. Только подслушав разговор жены с шурином, узнал он, что ему, Ивану Ильичу, тоже предстоит умереть, как всем прочим, — и не когда-то там вообще, а очень скоро. И с тех пор каждая минута его жизни была отравлена мыслью о надвигающейся смерти.
Анненский был не Иван Ильич. С ним не случилось так, что узнал он о смерти накануне ее как о чем-то неслыханном. Напротив, он знал и помнил о ней всегда, во всяком случае — все те годы, которые находятся в поле нашего зрения, будучи отражены его лирикой. Но, будучи, так сказать, растворен в большей дозе времени, яд этой мысли оказался и для Анненского не менее сильным, чем для Ивана Ильича. Поэт был отравлен ею не менее, чем толстовский герой. Он| был ею пропитан. Смерть — основной, самый стойкий мотив его поэзии, упорно повторяющийся в неприкрыт том виде и более или менее уловимый всегда, всюду, как острый и терпкий запах циана, веющий над его стихами. Неизвестно, когда впервые поразила Анненского мысль о смерти. Но несомненно, что она — главный и постоянный двигатель его поэзии. Он не сводит глаз с нее. Еще в «Тихих песнях» Анненский увидел смерть как стену, которая преграждает путь и все приближается, вырастая перед ним:
А там стена, к закату ближе,
Такая страшная на взгляд…
Она все выше… Мы все ниже…
«Постой-ка, дядя!» — «Не велят».
Эта стена была тем страшнее, что лошади могли вдруг рвануться, в один миг очутиться у самой стены: у Анненского был порок сердца.[2] Он знал, что смерть может случиться в любую секунду, прежде, чем он успеет понять, разобраться, в чем дело, и если не осмыслить эту стену, то хотя бы привыкнуть не так бояться ее. «Постой-ка, дядя!» — «Не велят». Когда читаешь его стихи, то, кажется, чувствуешь, как человек прислушивается к ритму своего сердца: не рванулось бы сразу, не сорвалось бы. Вот откуда и ритмы стихов Анненского, их внезапные замедления и ускорения, их резкие перебои. Это — стихи задыхающегося человека.
III
Иван Ильич был не глупый, но и не вдумчивый человек, а главное, просто обыкновенный. Он не привык думать о таких отвлеченных вещах, как смерть, да ему и некогда было за разными делами. До подслушанного разговора он шел себе жизненным путем и, можно сказать, из-за деревьев жизни не видел леса смерти. Она поразила его, отняла покой только тогда, когда он на нее наткнулся и она стала такой же реальностью, как все прочее. А до этой минуты он был счастлив.
Анненский был поэт, а не обыкновенный человек. Он не мог не думать о смерти — опять-таки еще и оттого, что она угрожала ему каждую минуту. И он был несчастен. Чтобы быть счастливым, ему надо было избавиться от мысли о смерти, обрести блаженное незнание о ней. Но так как это было невозможно, то оставалось только одно: искусственно загородиться от ужаса, то есть стать в положение Ивана Ильича, еще не знающего о смерти. Человеком необыкновенным, таким, о котором стоит написать повесть, «героем» повести, Иван Ильич стал, когда узнал о смерти. Heобыкновенный человек Анненский, чтоб не думать, забыть, не знать, пытался сделаться или хотя бы для самого себя притвориться совершенно обыкновенным. Отсюда его склонность к семейственным, бытовым и общественным традициям, его подчеркнутая корректность, его выправка, его истовость в служебных делах, в исполнении всяких обрядов, начиная от посещения церковных служб и кончая условными формами обращения с людьми, вежливости, гостеприимства. Все это тем больше нужно было Анненскому, чем меньше он верил в возможность действительно так врасти в быт, чтоб забыть о мучительном, постоянном memento mori. Он подчеркивал, искусственно усиливал свой бытовой уклад. В его доме придерживались даже такого старинно-барского обихода, который и в ту пору был уже анахронизмом. Но, конечно, от себя не уйдешь. Если даже в жизни «обыкновенность» Анненского становилась похожей на стилизацию, позу, то в поэзии он не умел и не хотел притворяться. В ней нет ни тени «обыкновенного человека», ни признака благополучия. Это — поэзия излома, надорванности, острых углов, резких поворотов, часто — капризов. Филолог и классик, исследователь античных авторов, Анненский-драматург не мог удержаться, чтобы не модернизировать, не заострить, не надломить даже такую, казалось бы, неприкосновенную для него форму, как античная трагедия. «Фамира-кифаред» — резкий пример этой модернизации. Если для человека маской было лицо директора гимназии, то для поэта такой же маской было лицо филолога и переводчика Еврипида. В лирике Анненского маска сползала всегда, в жизни — иногда. И это не действительный статский советник, а поэт иногда прорывался наружу шуточкой — за столом в гостиной:
— Простите, Иннокентий Федорович, я, кажется, занял ваше место? — Пожалуйста, пожалуйста: мое место — на кладбище.
IV
«Иван Ильич знал, что он умирает, но не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.
Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертей, — казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю. То был Кай, человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; но он был Ваня, с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, с кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? разве Кай так был влюблен? разве Кай так мог вести заседание?