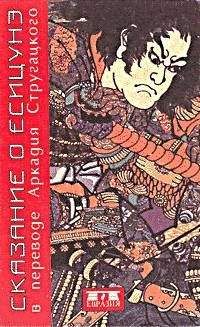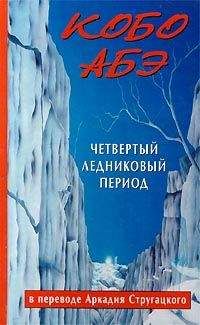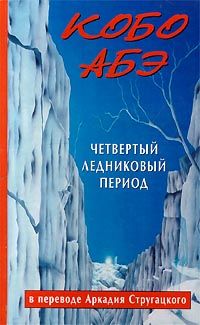А Воронский - Евгений Замятин - Литературные силуэты

Обзор книги А Воронский - Евгений Замятин - Литературные силуэты
Воронский А
Евгений Замятин - Литературные силуэты
А. Воронский
Евг. Замятин
Литературные силуэты
I
На примере Замятина прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерян контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье, и художник или мыслитель чувствуют себя среди современности пассажирами на корабле, либо туристами, враждебно и неприветливо озирающимися вокруг.
"Уездным" Замятин в 1913 году сразу поставил себя в разряд крупных художников и мастеров слова. "Уездное" - наша царская дореволюционная провинция, с обывателем сонным, спокойным, плодущим, серьезным, домовитым, богомольным. Уездное хорошо знакомо читателю и лично, и по художественным несравненным образцам классиков, начиная от Гоголя и кончая Горьким. Не раз встречались в этих вещах и герань душистая, и фикусы, и злые цепные собаки, и сонная одурь, и оголтелость, и навозный уют, и заборная психология. Тем не менее "Уездное" Замятина читается с живейшим вниманием и интересом. Уже тогда Замятин определился как исключительный словопоклонник и словесный мастер. Язык - свеж, оригинален, точен. Отчасти это - народный сказ, разумеется, стилизованный и модернизированный, - отчасти - простая разговорная провинциальная речь пригородов, посадов, растеряевых улиц. Из этого сплава у Замятина получилось свое, индивидуальное. Непосредственность и эпичность сказа осложнилась ироническим и сатирическим настроением автора; его сказ неспроста, он только по внешности прямодушен у автора; на самом деле тут все - "с подсидцем", со скрытой насмешкой, ухмылкой и ехидством. Оттого эпичность сказа выветривается и вещь живет и вдвигается в современное и злободневное. Провинциализм языка облагорожен, продуман. Больше всего он служит яркости, свежести и образности, обогащая язык словами не примелькавшимися, не замызганными - как будто перед вами только что отчеканенные монеты, а не стертые, тусклые, долго ходившие по рукам. Большая строгость и экономия. Ничего не пускается на ветер; все пригнано друг к другу, никаких срывов. Повесть с точки зрения формы - как монолит, из одного куска. Словопоклонничество не перешло еще границ, как случилось это с некоторыми вещами у Замятина позднее. Нет перегруженности, излишней манерности, игры словами, литературного щегольства и жонглерства. Читается легко, без напряжения, что отнюдь не мешает цепкости содержания. Уже здесь сказалось высокое умение художника одним штрихом, мазком врезать образ в память.
Новых персонажей Замятин не дал, но старое, знакомое дано в новом своеобразном освещении. Мирное житие уездного воплощено в сочной фигуре Анфима Барыбы. На глазах читателей Анфим из мальчонка вырастает в уездного урядника. Путь этот длинен, тяжел и богат злоключениями. Анфим четырехугольный. "Не зря прозвали его утюгом ребята уездники. Тяжкие, железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как есть, носиком кверху. Да и весь Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов". Звериное, крепкое тело, звериная душа, и все сосредоточено в одном: жрать, - ибо челюсти у Анфима свободно крошат камни в песок. Выгнали из училища, Барыба домой не пошел, а поселился в коровьей закуте, голодал, крал и попался по этому случаю в руки семипудовой купчихи Чеботарихи. Смилостивилась она, однако, над Барыбой, увидав его звериное тело, и уже Барыба - не Барыба из коровьей закуты, а правая у Чеботарихи рука: "сапоги - бутылкой, часы серебряные" и ото всех почет, а прежде всего от самой Чеботарихи, богомольной и ненасытной по ночам. Счастье не бывает, однако, долговечным. Чеботариха выгнала Барыбу из-за прислуги Польки. Опять - голодная жизнь. Но Барыба "круто заквашен". Подвертывается монашек Евсей, Барыба обворовывает его, засим лжесвидетельствует по найму на суде у адвоката уездного Моргунова. Докатилась в городишко, краешком заглянула революция 1905 года. Была экспроприация, произведенная подростками, успевшими скрыться, за исключением одного, и на беду вящщую исправника, полковник, прикативший судить, желудком страдал, и никак ему исправник угодить не мог; а тут еще - злоумышленников не найти. Из беды выручил тот же Барыба: за шесть четвертных доказал, что в числе злоумышленников был портной Тимоша - друг Барыбы верный и закадычный. Жалко друга, но Барыба стерпел и достиг уездных эмпирей: дали ему серебряные пуговицы и золотые жгуты, козыряет ему будочник. А Тимоху повесили.
"Хорошо жить на белом свете".
Анфим - символ уездного. Оно - утробное, жвачное, толстомордое, жирное, прожорливое. В уездном - бог съедобный. Положить живот в еде, до-отвалу, чтобы челюсти сладострастно перемалывали, чтобы спать до-одури, плодить детей телами потными и липкими. Сам по себе Барыба случаен: мог родиться, мог не родиться. Но его выпирает, выдвигает вперед уездное. Он неповоротлив, туп, почти идиот, по-звериному хитр. Но он нужен - Чеботарихе, монаху Евсею, адвокату Моргунову, исправнику, прокурору, полковнику, поэтому он без усилий, без борьбы достигает "вершин". Они тоже утробные. Анфим вобрал их в себя, он сделан из них, он - их сгусток. Это съедобное подчеркнуто и дано автором с исключительной силой.
"Уездное" только отчасти бытовая вещь. Больше, это - сатира и не просто сатира, а сатира политическая, ярко окрашенная и смелая для 1913 года. В отличие от ряда художников, писавших об уездном, Замятин связал российскую окуровщину с царским укладом, с политическим бытом, и в этом его несомненная заслуга. Но, странное дело, талант Замятина здесь достигает только полуцели. Недостает чего-то большого, проникновенного, всеосвещающего, что находит читатель у Гоголя, в сатирах Щедрина, у Успенского, Горького и даже у Чехова. Повесть, несмотря на свою цельность в стиле и форме, как бы распадается у читателя на кусочки. Мастерски рассказано, прелестно сделано, но именно сделано, за сердце не берет, в нутро не проникает, хотя Барыба, Чеботариха, Моргунов, Евсей, Тимоха, исправник стоят перед глазами.
К уездному с иной стороны подошел Замятин в другой повести "Алатырь". Еще Гоголь отметил маниловщину нашей провинции. Живут люди ни шатко, ни валко, казалось бы, райское житье, но человек так устроен, что должен, непременно должен о чем-то мечтать, чего не бывает и, может быть, никогда не будет. У Манилова все есть, а все-таки фантазирует. Если же у Маниловых не все благополучно, и они ущемлены чем ни на есть, то тем более. Об этих своеобразных фантазерах повествует писатель в "Алатыре". Алатырь - город. "У жителей тех - видимое дело - от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ - по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобили ползающих по травке". Однако благодать однажды миновала: была война турецкая, народу перебили очень много и остались алатырки без женихов. Отсюда и пошли алатырские сновидения на-яву. Дочь исправника Глафира стонет по женихам и ждет письма любовного от прекрасного незнакомца; исправник после неудачных попыток выдать замуж Глафиру еще крепче засел в кабинете; он изобретал; последние открытия: секрет печь хлебы не на дрожжах, а на помете голубином, или: как из обыкновенной холстины приготовить непромокаемое... сукно. Протопоп о. Петр в подпитии и в трезвом виде беседует с чертями; дочь его Варвара тоже осатанела от отсутствия женихов. Родивон Родивоныч, инспектор, услаждается чтением "Готского альманаха"; а то есть Костя Едыткин, служит на почте. У него заветная тетрадь. Написано: "Сочинения Конст. Едыткина, то-есть мои". И стихи: "В моей груди мечта стоит, а милая Глафира - ко мне презрит". По ночам пишет в волнении и любви великой. Словом, у каждого свои сновидения. Еще князь приехал в должности почтмейстера. Князь он, правда, такой: нос с горбинкой и подбородка нет восточный князь, но князь все-таки. И вот пошло: Глафира, Варвара, девицы все с ума сходят. А князь - тоже с мечтой, самой благородной: на одном великом языке эсперанто все должны говорить, и тогда не будет войн и настанет братство народов. У князя все учатся: исправник, инспектор, Глафира, Варвара, девицы другие. Кончаются сновидения плачевно: Глафира и Варвара устраивают взаимную потасовку, Костя терпит жесточайший крах с сочинением: "Внутренний женский догмат божества", в любви тоже. Терпит крах князь со своим эсперанто, исправник с опытами и т. д.
Тоже уездное, утробное, съедобное, но над этим - фантазмы, миражи, сновидения; жалкие, искривленные, заводящие в тупик, но все же фантазмы. Так между зоологией и нелепым фантазерством протекает скудная и нудная алатырская жизнь. От маниловщины фантазерство алатырцев, однако, отличается своим драматизмом; оно, несмотря на свою нелепость, в'едается и коверкает жизнь, разлетаясь прахом при первом соприкосновении с жизнью. И, может быть, оттого обитатели тысяч российских алатырей не верят в выполнимость великих порывов человеческого духа: ведь воочию у них только эти нескладные, ненужные сновидения.