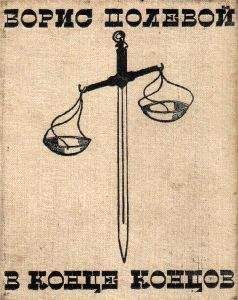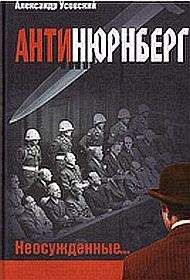Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов

Обзор книги Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов
Иван Алексеевич Бунин
Публицистика 1918–1953 годов
Страстное слово
Публицистика Бунина — органическая часть его художественного творчества.
Говоря это, хочу подчеркнуть слово «художественного». Для Бунина-художника необыкновенно велика роль эмоционального, страстного и даже пристрастного начала. Современники, однако, долгое время воспринимали его как парнасца, холодно копящего свои наблюдения, как летописца Руси, равнодушно внимающего добру и злу. Эта книга — лучшее опровержение такого расхожего мнения.
Из эмигрантской публицистики Бунина выросло многое, позднейшее: ряд его рассказов; «Воспоминания», вышедшие в Париже в 1950 году; неоконченная книга «О Чехове» и даже «Освобождение Толстого». Хотя другие, также многочисленные очерки, статьи, заметки, интервью, особенно одесского периода 1918–1919 гг., а также парижской поры 1920–1922 гг. ближе всего книге «Окаянные дни», которая не включена в данный том, так как несколько раз публиковалась в последние годы в России.
В этих полемических, гражданственных и патриотических выступлениях, кажется, предельного накала Бунин выражает себя как беспрекословный и последовательный сторонник Белой идеи, Белого движения, что, пожалуй, ярче всего выражено в его программном произведении «Миссия русской эмиграции» (1924). Можно без преувеличения сказать, что в 20-е годы в эмиграции Бунин выдвигается как безусловный лидер того большинства, которое исповедовало православно-монархические идеалы.
Этому, однако, предшествовала определенная эволюция взглядов.
С истоков дней, волею судьбы, Бунин впитывал в свой жизненный состав два основных начала: дворянское, с его замечательной книжной культурой и простонародно-крестьянское с его космосом. Народовольческое вольнодумство, шедшее от старшего брата Юлия и совершенно умозрительное, лишь коснулось его натуры, оставив язвительные характеристики этого революционного интеллигентского племени в «Жизни Арсеньева» (совершенно публицистические по существу). Таким образом, ему не нужно было «познавать народ», преодолевать тот сословный разрыв, который существовал даже и для Тургенева, бывшего для крестьян все-таки «охотником» («Записки охотника»). Не говоря уже о либералах-интеллигентах позднейшей формации, вроде одного из «властителей дум» Скабичевского, который поразил Бунина признанием, что никогда не видел, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.
В своей публицистике Бунин не раз повторяет, как общались с народом его «заступники»: «Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на стареньком, гнутом извозчике по улицам Москвы или Петербурга, позевывая спрашивает:
— Извозчик, ты смерти боишься?
И извозчик машинально отвечает дураку барину:
— Смерти? Да чего ж ее бояться. Ее бояться нечего.
— А японцев, как ты думаешь, мы одолеем?
— Как не одолеть? Надо одолеть.
— Да, брат, надо… Только вот в чем заминка-то: царица у нас немка! Да и царь — какой он, в сущности, русский?
И извозчик сдержанно поддакивает:
— Это верно. Вот у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый! Прямо собака…
Вот вам и готова твердая уверенность, что „наш мужичок мудро относится к смерти“, что он революционер и так далее». (См., напр., «Записную книжку», наст, изд., с. 181).
Для Бунина книжная выморочность интеллигентных воззрений на народ издавна была аксиоматична, не нуждалась ни в каких доказательствах. Другое дело, что он, начиная с самых ранних произведений («Федосеевна», потом — «Новая дорога», «Сосны», «Мелитон», «Антоновские яблоки») и чем дальше, тем пристальнее («Деревня», «Ночной разговор», «Игнат» и т. д.) пытался разгадать некую тайну, загадку русского народа, придя в итоге к выводу о вулканическом противоборстве в его недрах «азиатского», «скифского» и великорусского начал, «Инонии» и «Китежа», если воспользоваться образами бунинской статьи 1925 года к 50-летию со дня смерти гр. А. К. Толстого. Впрочем эти грозные выводы Бунин сделал для себя гораздо раньше, предвидя тектонические катастрофы и «реку огненную», о какой «орет» один из его героев, «выпавший» из обыденной жизни юродивый Шаша («Я все молчу»).
Потому-то и революция, а точнее, бессмысленный и беспощадный русский бунт, где разинская и пугачевская голь, «лодыри» и «босяки», а того пуще — интернациональные садисты, психопаты-матросики и всякого рода уголовная рвань, направляемая на «мировой пожар» патологическими лицами с университетским образованием, не была для Бунина (в отличие от большинства писателей — от Мережковского до Горького и Куприна) чем-то неожиданным, хотя и он не мог предвидеть аховых жестокостей и крови, какие она явит. Иных, здоровых и разумных сил в противоборствующем стане Бунин не видит: одни «бесы». Он обращается к нелюбимому Достоевскому, открывая для себя его провидения и пророчества, и неоднократно цитирует его в своих политических статьях. Впрочем, гениальный роман, кажется, сделался у Буниных настольной книгой. Вера Николаевна Муромцева-Бунина заносит в дневник: «Начала читать „Бесы“. Первая глава удивительно хороша»[1]. Страстная до исступления публицистика Бунина где-то оказывается близка горячечным монологам героев Достоевского.
Слово «страстный» на Руси испокон века носило два значения, правда, с переносом ударения: «Увы мне, страстному!» и «Страстная служба». В многочисленных статьях и выступлениях Бунин обращается к Вечной Книге — Библии, находя в ней грозные символы и уподобления новому Екклезиасту, когда люди с циническим равнодушием переносят тиранию и деспотию. Воистину, публицистика Бунина — это «страсти по Иоанну». Его Патмосом становится Франция; его Апокалипсисом — «Окаянные дни».
Впрочем, изгнание для Бунина началось вовсе не 26 января 1920 года, когда он покинул Одессу на французском пароходе, а в Орше 26 мая 1918 года, ставшей, увы, границей между двумя «независимыми государствами» РСФСР и Украиной. Этот несчастный город, бывший до XIII века владением Мономаховичей, а затем переходивший под власть Литвы и Польши, только в XVIII столетии вернулся к России и вновь был отторгнут от нее по позорному Брестскому миру. Здесь, в Орше, Бунин плакал, «оставив за собой развалины России» («Страшные контрасты»). Отсюда начался его крестный путь через Одессу, Константинополь, Софию в Париж, чтобы в конце концов упокоиться в чужой, французской земле.
Бунин чувствовал в себе все более крепнущую убежденность бороться с большевиками не только словом, но и делом. В марте 1919 года, когда Добровольческая армия терпела поражения и банды атамана Григорьева (впоследствии убитого своим подельником батькой Махно) готовились войти в Одессу, говорил Вере Николаевне:
«Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».
«Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, — продолжает Вера Николаевна, — и я вдруг увидела, что он похож на боярина.
— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю…»[2].
Это признание проливает свет на многое. И неудивительно, что в августе 1920 года П. Б. Струве, от имени правительства Вооруженных сил Юга России, пригласил Бунина в белый Крым: «Переговорив с А. В. Кривошеиным, мы решили, что такая сила, как Вы гораздо нужнее сейчас здесь у нас на Юге, чем заграницей. Поэтому я послал Вам телеграмму о Вашем вызове. Пишу спешно»[3]. Однако последний в России белый анклав был к тому времени обречен и должен был пасть. 15 ноября 1920 года Вера Николаевна занесла в дневник: «Армия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, когда теряешь близкого человека»[4].
Таким образом, с первых дней горестной эмигрантской жизни Бунин занимает крайне правые позиции, выступая со статьями, резкость тональности которых выделяет их даже и в «белой библиотеке». Он восхищается вождями «русской Вандеи» — Л. Г. Корниловым, А. И. Деникиным (с которым познакомился еще в Одессе — «очень изящный человек с голым черепом, легко и свободно ходит. Глаза бархатные под густыми ресницами, усы черные, бородка седая. Улыбка удивительно хорошая. Прост в обращении»[5]), А. В. Колчаком («Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли» — статья 1921 года «Его вечной памяти»), П. Н. Врангелем. Их имена неотрывны для него от утраченной России. 1(14) апреля 1921 года заносит в дневник: «Вчера панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России»[6]; через год: «Панихида по Колчаке. Служил Евлогий. Лиловая мантия, на ней белые с красными полосы. При пении я все время плакал. Связывалось со своим — с Юлием и почему-то с Ефремовым, солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец»[7].