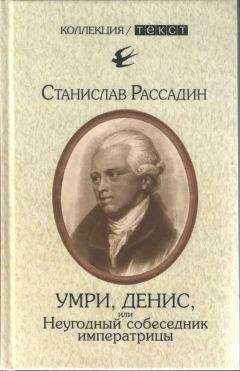Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
— Вот так пошла бы ловля!..
Да, ловля, в которой все уловляемые пугающе равноправны или равно бесправны перед ловчими: крепостные крестьяне и их знатный владелец, дворянин Сухово-Кобылин; мелкая сошка, коллежский советник Тарелкин, и его превосходительство Максим Кузьмич Варравин…
Да! И он.
В начале «Смерти Тарелкина» в убийственном диалоге автор давал ему возможность любовно и грозно взвесить значение своего чина — затем, чтобы тут же внушительно долбануть им по маковке ближнего. В данном случае — тарелкинской кухарки.
— Поди сюда, глупая баба.
— Слушаю, батюшка.
— Знаешь ли, кто я?
— Не знаю, батюшка.
— Я генерал.
— Слушаю, батюшка, вашу милость.
— Знаешь ли, что такое генерал?
— Не знаю, батюшка, ваша милость.
— Генерал — значит, что я могу тебя взять и в ступе истолочь.
И глупая баба, поступая вовсе не глупо, бухалась на колени:
— Пощадите, батюшка, ваше сиятельство.
Но вот по ходу интриги Тарелкин в отместку оговаривает и Варравина, а Расплюев вновь, уже на деле, оказывает свою доверчивость:
— Однако — когда сам арестант показывает: целая, говорит, партия — будто и генерал Варравин тоже из оборотней.
— Что ты говоришь? — изумляется Ох, уступающий подчиненному в творческом воображении.
— Ей-ей показывает. Был, говорит, змеею. Жало при себе имеет и яд жесточайшей силы. Вы, говорит, его освидетельствуйте; — генерала-то…
— Ну что же?
— Будем свидетельствовать, ха, ха, ха!
«Оба хохочут», — отметит в ремарке Сухово-Кобылин, вовсе не принудивший Оха испуганно или гневно укоротить Расплюева, который замахнулся уже и на Варравина. Мысль о том, что и генерала можно «освидетельствовать», то есть придавить, припереть, а коли удастся, то и взять с него, — эта мысль еще, пожалуй, кажется ему странной, но тешащей сердце и даже не невозможной. Не утопической.
В самом деле… Я уже говорил о разнузданной мечте Расплюева: полицейская, дескать, утопия. Но почему же непременно утопия? Может быть, просто крепкая память? То, чего не может и не желает забыть полиция? То, что и обыватель российский помнит — спиной, боками, загривком?
Вспомним и мы, воспользовавшись словами цитированного судебного витии — о дореформенном положении дел: «… была одна только всевластная и всемогущая полиция».
Да. Крепкая память — и оптимистическая надежда: так было, так будет. Надежда, как выяснится, не обманувшая. «Царское самодержавие есть самодержавие полиции», — подведет, спустя время, итоги Ленин.
О пленении Варравина Ох и Расплюев всего лишь весело возмечтали; не более. В эту сторону сюжет комедии не свернул. Однако зарубка нам на память осталась.
«Ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю» (Щедрин. «Письма к тетеньке»).
Когда-то Кандид Касторович Тарелкин убедительно разобъяснил Анне Антоновне Атуевой, что, оказавшись в роли просителя, человек предстает как бы нагишом — без родовых и личных заслуг, без прав, без твердой надежды, что справедливое дело будет выиграно, ибо оно справедливо; что это даже входит в расчет канцелярских чинов: проситель должен ступать неуверенно, как в предбаннике, будто он и впрямь голый.
Потом Князь наглядно докажет Муромскому, что бумага важнее и содержательнее «страдания»; что идея бюрократической справедливости не существует без обезлички, собственно в ней-то и заключаясь; что равенство перед законом — это равенство ничтожеств, тех, кто обращен в ничто.
В «Смерти Тарелкина» предстает иная, новая ступень этого страшного равенства — еще страшнее, потому что оно состоит не в обидной ничтожности, а в опасной беспомощности. И не в том только дело, что вкупе с ничтожествами к одному знаменателю могут быть при нужде приведены и те, кто попирает их пятой, — вернее, и это обстоятельство подтверждает особенное могущество силы, представленной здесь Охом и Расплюевым: она вне общепринятой иерархии, вне видимых закономерностей, хотя бы и таких, как бюрократическая, — совсем неспроста логика тут венчается и как бы подтверждается абсурдом. Расплюевской картиной всеобщей полицейско-охотничьей ловли и его же готовностью арестовать своего набольшего начальника, обер-полицмейстера, — только бы поступил донос. Только бы крикнули по-старинному: «Слово и дело!»'
(В границах комедии, имея в виду ее чрезвычайное своеобразие, это самое слово — еще и метафора, способная грозно материализоваться и стать обвиняющим делом. Делом в руках следователя.)
Племянник Александра Васильевича и сын Елизаветы Васильевны, Евгений Салиас де Турнемир (он же популярный — и плохой — беллетрист граф Салиас), объяснял, отчего Расплюев получил в «Смерти Тарелкина» именно чин квартального надзирателя, — у автора сказано даже с некоторой осторожностью: «Исправляющий должность…» И. о.
«Александр Васильевич сделал его квартальным потому, что высший чин был уже совершенно нецензурен. Под видом квартальных и частных приставов он намекал на лиц гораздо более высших. Помните, когда Расплюеву поручается произвести следствие о смерти Тарелкина, — как он расправляет крылья? Как он всех начинает держать в подозрении, всю Россию? Он мечтает, как арестует всех, — правых и виноватых, — разве это не похоже на наших многих администраторов? Ведь критики отнеслись к «Смерти Тарелкина» с кондачка, смотрели на нее как на пустячок, — а проглядели, что эта сатира почище щедринской».
Критики критиками, сатира сатирой; тут не о чем спорить. Да и что касается тайны замысла, не уступающей тайне исповеди… Кто теперь скажет, по каким в точности соображениям получил Расплюев свой чин? Кто и тогда мог утверждать это, — кроме хранителя тайны, автора? Сын Андре Салиаса де Турнемира, Евгений, стало быть, Андреевич, отвечает с уверенностью, — возможно, что и напрасной: он вообще многовато брал на себя в своих пояснениях к жизни и писаниям дяди.
Как бы то ни было, ясно одно: вознесись Иван Антонович несколькими ступенями выше, ему было бы лестно, а комедия крупно бы проиграла.
Не просто о том речь, что Расплюев, таков, какой он есть, не слишком годится в полицмейстеры или вроде того, не говоря о лицах «гораздо более высших», — между прочим, в «Деле» Сухово-Кобылин не постеснялся вывести генерала, министра и, сверх того, лицо, при упоминании о коем якобы «всё, и сам автор, безмолвствует». Показавши низовую полицейскую власть, получающую такие полномочия, внушающую такой страх и смело лелеющую и открыто высказывающую такие мечты, он замахнулся не на чин, как высок бы тот ни был, но гораздо выше. И шире — на устойчивое положение вещей.
«…У нас возведена чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции (разрядка моя. — Ст. Р.), тогда как с другой стороны одно слово полиция в мнении народа и на самом деле стала синонимом отъявленного грабежа, взяточничества, насилия и беззакония… Генер. губернатор видит в обер-полицмейстере отражение своей личности, а этот последний стоит уже, как за самого себя, за частного пристава и квартального, которых не совестится наедине осыпать площадною бранью, за городового и будочника, которых бьет собственноручно».
Выглядит совсем как постраничный комментарий к изданию «Смерти Тарелкина», — нет, однако, это вновь молодой Константин Победоносцев, еще не успевший оборотиться, вернее сказать, проявиться в полной и окончательной мере и покуда пишущий в лондонский герценовский сборник. Впрочем, нечаянным комментатором он оказался и по отношению к самому Герцену, к некоторому обстоятельству его судьбы.
«Власть щедрою рукою рассыпана у нас повсюду, — жестко пишет будущий «Бедоносцев для народа», — от министра до будочника — на каждом шагу встречается лицо, облеченное всею неприкосновенностью власти».
Вот с будочником-то — с лицом, куда более прикосновенным, чем даже Расплюев, вообще ничтожным, если считать по обычной иерархии, — и вышла драматическая оказия.
Когда в 1841 году Александра Ивановича арестовали уже во второй раз, причина была еще менее понятна ему, чем в первый. Она не торопилась проясниться и тогда, когда чиновник особых поручений при Третьем отделении уже читал ему нотации, укоряя в неблагодарности правительству, возвратившему его из ссылки.
— Ежели вы можете мне объяснить, — прервал его Герцен, — что все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.
— Куда ведут? Хм… Ну, а скажите, слышали вы, как у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?
— Слышал.
— И, может, повторяли?
— Кажется, что повторял.
— С рассуждениями, я чай?