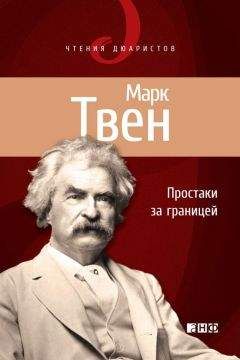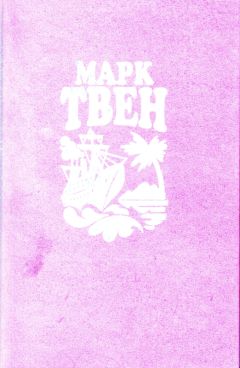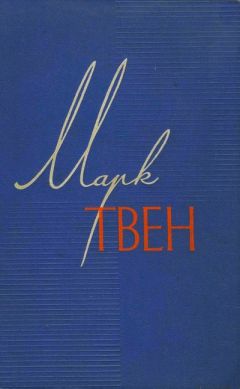Марк Твен - Простаки за границей или Путь новых паломников
В звездном сиянии у моря нет границ, лишь небо объемлет его со всех сторон, и сцена эта достойна разыгравшихся на нем великих событий; достойна рождения новой веры, призванной спасти мир; достойна величавого образа того, кто провозгласил отсюда свои высокие заветы. Но в свете дня говоришь себе: неужели ради деяний, свершенных на этом скалистом, песчаном клочке пустыни, ради слов, что были сказаны здесь восемнадцать веков назад, ныне звонят колокола на самых далеких островах, по всем материкам нашей огромной планеты?
Это можно постичь лишь ночью, которая скрадывает все, что может нарушить гармонию, и превращает море Галилейское в подмостки, достойные столь великой драмы.
Глава XXII. Древние бани. — Последняя битва крестоносцев. — Гора Фавор. — Вид с ее вершины. — Воспоминания о волшебном саде. — Жилище пророчицы Деворы.
Мы снова купались в море Галилейском, вчера в сумерки и сегодня на восходе солнца. Мы не плавали по нему, но разве три купанья не стоят одного плавания? Рыбы здесь видимо-невидимо, но, отправляясь в странствие, мы запаслись лишь описаниями путешествий вроде «В шатрах на Святой Земле» и «Святая Земля и Библия» и не запаслись рыболовной снастью. В Тивериаде рыбой не разживешься. Мы, правда, видели, как двое или трое бездельников чинили сети, но на наших глазах они так ни разу и не закинули их в море.
Мы не пошли в древние бани в двух милях от Тивериады. У меня не было ни малейшего желания туда идти. Это удивило меня и побудило задуматься над причиной столь непостижимого равнодушия. Оказалось, все дело в том, что их упоминает Плиний[188]. С некоторых пор я самым непозволительным образом невзлюбил Плиния и апостола Павла, — ведь я никак не мог найти такого уголка, который принадлежал бы мне одному. Всякий раз неизменно оказывалось, что апостол Павел побывал здесь, а Плиний упоминает это место в своих трудах.
Ранним утром мы оседлали своих скакунов и отправились в путь. И тут во главе процессии возникла загадочная фигура — я бы назвал ее пиратом, если бы пираты водились на суше. Это был рослый араб, еще молодой — лет тридцати, кожа у него была медного оттенка, точно у индейца. Голову туго обвивал яркий шелковый шарф — желтый в красную полоску, — концы которого, окаймленные густой бахромой, свисали на плечи и колыхались на ветру. От шеи до колен свободными складками ниспадал плащ — настоящее звездное знамя, все в волнистых, змеящихся черных и белых полосах. Откуда-то из-за спины торчал высоко над правым плечом длинный чубук. Высоко над левым плечом торчал ствол висящего за спиной непомерно длинного ружья — из тех, какими вооружены были арабы во времена Саладина, — все, от ложа до самого дула, отделанное серебром. Вокруг стана множество раз обернут был длинный-предлинный, искусно расшитый, но до неузнаваемости выгоревший кусок шелка родом из роскошной Персии, и впереди, среди бесчисленных складок, сверкала на солнце грозная батарея старинных, оправленных медью исполинских пистолетов и позолоченные рукояти кровожадных ножей. Еще несколько пистолетов в кобурах было подвешено к длинношерстным козьим шкурам и персидским коврам, которые громоздились на спине лошади и, видимо, должны были заменить седло; широкие железные стремена вздергивали колена воина под самый подбородок, и, бряцая о стремя, среди свисающих с седла огромных кистей болталась кривая, отделанная серебром сабля таких великанских размеров и такого свирепого вида, что при одном взгляде на нее самого отчаянного храбреца должно было бросить в дрожь. Разряженный в пух и прах принц, что, верхом на пони и ведя в поводу слона, гордо вступает в селение во главе бродячего цирка, нищ и наг пред этим пышно разубранным всадником, и удовлетворенное тщеславие первого сущая безделица по сравнению с царственным величием и бьющим через край самодовольством второго.
— Кто это? Что это? — посыпались со всех сторон испуганные вопросы.
— Наш телохранитель! От Галилеи до места рождения Спасителя страна кишит свирепыми бедуинами, у которых в этой жизни одна утеха — резать, рубить, увечить и убивать ни в чем не повинных христиан. Спаси нас аллах!
— Тогда наймите полк солдат! Неужели вы пошлете нас навстречу ордам головорезов, когда у нас не будет иной защиты, кроме этого ходячего арсенала?
Драгоман рассмеялся — но не остроумному сравнению, ибо поистине не родился еще на свет гид, проводник или драгоман, способный хоть как-то оценить шутку, даже если она такая грубая и тяжеловесная, что, упади она на него, она расплющила бы его в лепешку, — драгоман рассмеялся и, подстрекаемый, без сомнения, какой-то своей, тайной мыслью, позволил себе даже подмигнуть нам.
Когда в таких передрягах человек смеется, это придает храбрости; когда он подмигивает — на душе становится совсем спокойно. Наконец он дал понять, что мы и с одним стражем будем в полной безопасности, но уж без этого одного никак нельзя: его устрашающие доспехи окажут магическое действие на бедуинов. Тогда я сказал, что нам вообще не нужны никакие стражи. Если один нелепо вырядившийся бродяга может спасти от всех бед восьмерых вооруженных христиан и целую кучу их темнокожих слуг, так уж конечно они и сами сумеют себя защитить. Драгоман с сомнением покачал головой. Тогда я сказал:
— Подумайте только, на что это похоже! Подумайте, что скажут самоуверенные американцы, если мы будем трусливо пробираться по этой безлюдной пустыне под охраной какого-то ряженого араба, который сломит себе шею, удирая во все лопатки, если за ним погонится настоящий мужчина? Это глупо, это попросту унизительно. Зачем нам велели запастись пистолетами, если мы все равно отданы под защиту этого негодяя в звездно-полосатом плаще?
Все уговоры были тщетны, драгоман только улыбался да покачивал головой.
Я выехал вперед, завязал знакомство с этим новоявленным царем Соломоном-во-всей-славе-его и заставил его показать мне свое допотопное ружье. Замок его проржавел; ствол сплошь был в серебряных кольцах, пластинках, бляшках, но при этом он был кривой, как бильярдные кии выпуска сорок девятого года, которые все еще попадаются на старых приисках Калифорнии. Дуло было до филигранной тонкости изъедено узором многовековой ржавчины, и край стал как обгоревшая печная труба. Зажмурив один глаз, я заглянул в дуло — оно все заросло ржавчиной, как старый паровой котел. Я взял в руки исполинские пистолеты и взвел курок. Они тоже изнутри проржавели, и уже целую вечность их никто не заряжал. Я вернулся на свое место весьма ободренный, рассказал обо всем гиду и попросил его отпустить эту безоружную крепость на все четыре стороны. И тогда все объяснилось. Этот молодец состоит на службе у шейха Тивериады. Он источник государственных доходов. Для Тивериадской империи он то же, что для Америки таможенные пошлины. Шейх навязывает путешественникам охрану и взимает с них за это плату. Это богатый источник доходов, в иные годы он приносит казне до тридцати пяти и даже сорока долларов.
Теперь я знал тайну этого воина; знал истинную цену его проржавевшей мишуре и презирал его ослиное самодовольство. Я наябедничал на него и вместе со всей безрассудно отважной кавалькадой двинулся навстречу опасностям безлюдной пустыни, не слушая его отчаянных воплей, суливших нам увечье и смерть на каждом шагу.
Мы поднялись на тысячу двести футов над озером (я не могу не упомянуть о том, что озеро лежит на шестьсот футов ниже уровня Средиземного моря, — еще ни один путешественник не пренебрег возможностью украсить свои письма этой знаменитой подробностью), и нам открылась убогая панорама, — столь убогим, наводящим тоску видом не всякая страна может похвастать. Но земля эта так густо населена историческими воспоминаниями, что если бы выстлать ее страницами книг, о ней написанных, они покрыли бы ее сплошным ковром от края и до края. В эту панораму входят гора Хермон, горы, окружающие Кесарию Филиппову, Дан, истоки Иордана и Меромские воды, Тивериада, море Галилейское, ров Иосифа, Капернаум, Вифсаида, места, где, как предполагают, была произнесена Нагорная проповедь, и где были накормлены голодные толпы, и где произошел чудесный улов рыбы; откос, с которого свиньи кинулись в море; места, где Иордан впадает в озеро и вновь вытекает из него; Сафед — «город на холме», один из четырех священных еврейских городов, тот самый, где, как верят иудеи, появится истинный мессия, когда придет спасать мир; отсюда видна также часть поля, где разыгралась битва при Гаттине — последняя битва рыцарей-крестоносцев, после которой они в блеске славы сошли со сцены и навсегда покончили со своими великолепными походами; гора Фавор, на которой, по преданию, совершилось преображение Господне. А вид, открывшийся нам дальше, на юго-востоке, вызвал у меня в памяти одно место из Библии (я, разумеется, не припомнил его в точности).